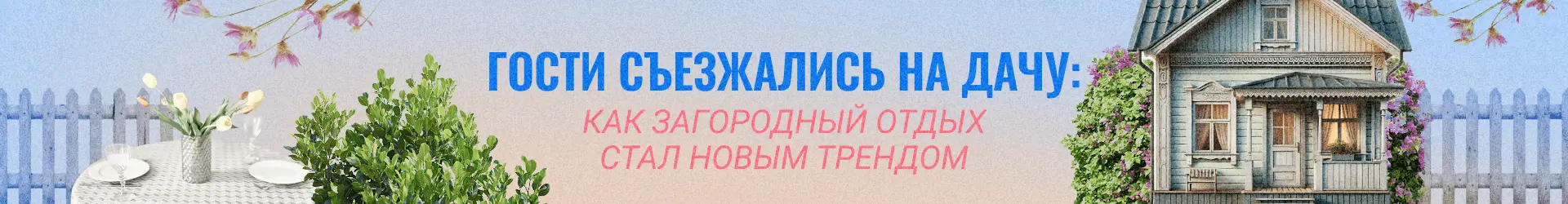Ночь страшных теней, птицы, сыплющие в глаза песок, и лес, которому снится покойник: премьера радиоспектакля по «Антиравинагару» Романа Михайлова
«Антиравинагар» — завершающая часть трилогии писателя и режиссера Романа Михайлова, в которую также входят романы «Равинагар» и «Изнанка крысы». По третьему, еще не опубликованному роману, Роман в рамках стартовавшего вчера проекта «БДТdigital» ставит многосерийный радиоспектакль, с первой серией которого уже можно ознакомиться тут. Призрачный мир этой постановки населяют колдуны и проповедники, мертвецы и сектанты, бандиты там проводят вместе с птицами красивые ритуалы, а ковры оказываются картами путешествий. С любезного разрешения автора «Нож» публикует разыгранный в первой серии фрагмент «Антиравинагара», чтобы вам проще было полностью погрузиться в атмосферу этой необычной постановки.
За окном тусклый воздух и жалкий голос еле живой птицы, неподвижные капли на листьях и уснувший ветер. Ветер застывает как дым, прячась в себе. Возникает он тоже из себя, не извне, он не приходит, а пробуждается.
В ночи есть звон, отсутствующий днем. Днем он заглушается деятельностью, а ночью проступает.
Ночь мы проживаем как звон.
Этот звон не выправляется ничем, от него можно лишь отвлечься более подвижными ритмами, расходиться и перестать вслушиваться. Он присутствует как натяженная данность.

Звенящее натяжение проявляется во сне как фон, как звучание машины, поезда, пространства, колокола. Натяжение лески и церемонии.
На окраине дом, в который боюсь заходить. Даже не заходить, а проходить мимо. Когда иду по соседнему кварталу, поглядываю в его сторону. Он, словно живой, поглядывает на меня, замечая, куда иду и где меня видно.
Решил пройти рядом, присмотреться. Вроде всё обычно, скамейки, кирпичные кладки, окна. Заметил, что дверь подъезда открыта — можно заскочить и подняться.
Вошел, сердце заколотилось, показалось, что воздух гуще обычного, и лестничная клетка представляет не только ступеньки, но и раскрывающиеся шторы.
Справа батарея в виде мехов застывшей гармони. Впереди три квартиры и поворот на второй этаж.
Чем дальше проходил, тем волнительнее присутствовали чувства.
Такое движение скорее похоже на вхождение в рощу, в плотный слой трав, кустов, дыма, с холодом в спине, мягким нерешительным телом.
Поднялся на четвертый этаж, зашел в квартиру, лег у стены. Бабушка спросила, что за вспышки света ходят по квартире, не я ли их делаю. Не я. Она подождала и сказала «но ведь ты это делаешь, вот, на стене». А по стене прошло отражение из окон, просто машина проехала и покачнула свет от фонаря или фарами прошлась по отраженности, тени сдвинулись и пробежали по комнате. Конечно, не я, а случайное освещение, так часто, когда рядом дорога. Бабушка сказала, что рядом есть длинный коридор, в конце — двухкомнатная квартира, пустая, без мебели, но с красивыми обоями. Если ходишь по коридору, хочется кого-нибудь встретить, показать, как ладно поклеена квартира.
Ночью, чтоб уснуть, надо войти в покой, иначе будешь дергаться, вспоминать, тревожиться. Войти в покой легче через усталость. Уставать тоже надо уметь. Наслаждаться усталостью и нежеланием действовать. Если приятно находиться в неподвижности, скоро наступит сон.
Ближе к утру, когда невроз мира становится невыносимо звонким, птицы начинают кричать. Они не общаются, а кричат от внутренней боли, от осознания себя. Выглядит это так, что они приветствуют рассвет и радуются наступлению очередной жизни. И приветствуют, и радуются, но в том числе тому, что можно будет действовать вместо вслушивания. Конечно, радуются, хотя бы тому, что сон оказался всего лишь сном, они снова пробудились, а не умерли.
В. рассказал о ночи страшных теней. На втором этаже на стене выстроился целый теневой театр, свет приходил из окна вместе с силуэтами невесть чего: всё это варилось и брызгало. Невозможные трансформации, ясно намекающие, что происходит представление драмы иного мира, а не физический след от деревьев и фонарей. Тени показывали процесс рождения, в пугающих деталях, неспешно и холодно.

Если это утро мира, то скоро должны начать складываться формы, но, возможно, они уже сложены и показывают себя расщепленным кодом. Может оказаться, что это не утро, а день, самая активность привычного мира, записанная в непривычной кодировке.
Проснулся в 2:43. Дядя Коля уже суетился на кухне. Сказал, что собирался будить меня, нужно выехать заранее, а то если дорогу где замело, можем увязнуть. Туда ехать несколько часов, через полчаса отправимся, как раз поспеем.
В окнах — ни огонька, всё черное, в домах напротив ни единого свечения, либо все спят, либо никого нет, силуэты зданий есть, если приглядеться, но словно потонувшие в мрачном сгущении. Похоже, окна занавесили, только с внешней стороны, или заклеили темной бумагой. Так не бывает, когда лежит снег, он дает отражение-освещение лунного неба, «замело» — было сказано наверняка про пыль или песок.
Мы поедем в город, на рынок. Там все собираются часам к пяти, а к рассвету уже никого нет, все расходятся.
По рассказам, этот рынок всегда представлялся такой сходкой безумных людей, типа радиолюбителей или коллекционеров, казалось, что там нет ни одной женщины, все странны и нелепы, шепчутся между собой, показывая ценные товары. Как на городских площадях раз в месяц встречаются сборщики старинной утвари, ржавых ключей, никому из разумных людей не нужных изделий. Так и там, только еще нелепее. Дядя Коля рассказывал, мне не верилось. Спросил его, ничего, что он приведет человека со стороны. Ничего, туда со стороны не попасть, если приехал, значит, интересуешься.
Не помню, как мы спускались по лестнице, воспоминания ограничиваются моментом пробуждения, временем в ванной и на кухне, растянуто-порванным словно пластилин, и уже выходом из дома. Мы вышли из дома, не выходя из квартиры и не спускаясь по лестнице, хотя это был явно не первый этаж? Так в памяти. Память, как сон, высвечивает ценные сгустки и прячет посторонние фрагменты.
Мы вышли из подъезда. Это воспоминание снова растягивается, кажется и застывшим, и мерцающим. Воздух не холодный, не теплый, и то, что видно по сторонам, не соотносится с тем, что должно там существовать. Никаких домов, дворов, скорее направленность и ощущение присутствия.
Вернусь на пару мгновений назад. Еще отчетливо помню, как дядя Коля смотрел в темноту, сидя на кухне, вглядываясь в невидимые перспективы. Все эти моменты я не раз восстанавливал и выстраивал в мысленную цепочку, и при каждой такой фиксации складывалось впечатление, что упущены важные детали.
Если бы снимал фильм о той ночи, начал бы со сцены, как стою в ванной, смотрю на себя, а изображение в зеркале меняется, уходят морщины, лицо набирается молодости, превращается в гладкое и свежее, а фоном звучит итальянское диско в техно-обработке, с радужными колокольчиками, типа Don Amore, Love Tonight или Miko Vanilla. Дядя Коля слегка улыбается, поглядывая в мою сторону. Сейчас выйдем из дома, сядем в машину и отправимся на рынок.
Также не помню, как мы сели в машину, — этот фрагмент спрятан памятью. Мы вдохнули тихий воздух, проплыли по дороге около дома и погрузились в подвижную тьму.
Такое чувство, что я повел эти бытописания в неправильной ритмичности. Все приведенные детали — кухня, зеркало, черное окно — выглядят неважными деталями. Начну заново.
Ночь придерживала в себе всякое движение и спала вместе с жизнью, без ветра и лунного освещения. Лес, покрытый тяжелой сетью, придавленно и тихо видел во сне покойника, бегущего по кладбищенским дорожкам, от могилки к могилке. Наверное, люди видят такие сны, как они умрут и поплывут по местам захоронений, по песочной пенке, скользя и вспоминая, что с ними было раньше. А люди не видят таких снов, их видят деревья, укутанные в плетенках, и когда они переплетены, они — не деревья, а целый лес с единым дремлющим сознанием.
Такое сознание способно парить и различать, перемещаться по тропкам, в нем не темно, не страшно. Никто с криком не пробуждается от увиденного кошмара, не пытается рассказать и объяснить увиденное. Этого «увиденного» и нет, в смысле оно не случалось, скорее вспоминалось как всегда данное. То есть это не первый такой сон, и не второй, он и не сон вовсе, что может начаться и закончиться, а скорее некое памятование о возможности. Необходимость видеть и фиксировать сны есть у разрывных сознаний, а когда всё так слито и стянуто, сон — не сон, а часть тела, как кора, и видение не длится, а присутствует.
Деревья не видят себя людьми, и люди не видят себя деревьями, скорее и те и другие видят общее дыхание, перетекающее по пространству допустимого. И «видел во сне покойника» — это видел не застывший труп или мертвеца, а покойное дыхание, избавленное от лишней суеты, способное посмотреть на пустое кладбище как на дремлющий лабиринт. Покойник не оживает и не блуждает в поисках выхода, он туда и не заходил.
И в той ночи так и было. Внешне прижатое прозрачным камнем, тяжелое и неподвижное, а внутри — плутающее без умысла. Мне виделись два места: первое — то самое кладбище, крайне прибранное, очищенное, без посетителей, с путаными дорожками, по которым можно дышать-перемещаться, а второе — место у стены, с телефоном, по которому я разговаривал с Б. В руках была бумажная поделка — сверток, но не равномерный, а заостренный у верха и более широкий у основания, как тонкий длинный колпак, сделанный из вставленных друг в друга цилиндров, на каждом из которых изображен какой-то царь или король. Собственно, Б. спрашивал о планах, а я вертел в руках этот сверток и вспоминал, как только что двигался по кладбищу. Планы обычные: буду в городе, рад буду повидаться. В каком городе? Это третье место.
Кто пробудился, кто не пробудился, а в той ночи было черное окно, как разлитая по внешнему миру смола, и желтое освещение на кухне. Дядя Коля уже встал, нарезал хлеб, вскипятил воду, увидев меня, сказал, что собирался будить, пора выдвигаться. Перекусим, закинем вещи в его машину и отправимся без лишней спешки. Когда холодно, мало двигаешься, только сотрясаешься, копишь в себе тепло; типа тепло сделается от малых движений и расплескается, если пойти широко.
Момент, когда мы вышли из подъезда, прошли метров двадцать и сели в машину, крайне важен. Тоже показалось, что мы не вышли, а выплыли, без ног, плавно, из желтой кухни в черную внешность, не как люди, а как комки дыхания. И этот момент растянулся как губка, стал вневременным. Мы вышли из неподвижного и сели в подвижное, оставшись внутри себя блуждать по кладбищенским тропкам. Определенно, дядя Коля знал о сне или видел его же, он мог заглядывать в интимные подробности, ничего не спрашивая, просто наблюдая. Мы с дядей Колей — не покойники, и квартира — не могила, мы вполне дышим и смотрим. А где тогда твое тело? Здесь, на месте, в месте, в городе.
Мы отправились в город, на рынок. Рынок — порядок лавок, продавцов, покупателей, ряды, товары, — так обычно. Они начинают торговлю в ночи, чтобы к рассвету уже завершить, собраться и исчезнуть.
То, что произошло «дальше», произошло далеко не «дальше», оно могло быть как «до», так и «после», и у меня нет четкого ощущения, что это произошло именно тогда. Однако сколько раз восстанавливал события в памяти, этот странный момент связывался с движением в город.
Движение: как снаружи, так и внутри; только ощущение, что оно в мгновение сместилось, направилось в другую сторону. Я оказался посреди большой комнаты без стен, с подвижным полом. Всё покачивалось и мирно звенело. Еду в никуда, вернее, меня везут, к полу привязаны веревки, и это как санки, можно лечь, прижаться и застыть.

То ли потолок, то ли небо. И оно склеилось в купол. Можно смотреть на приятные далекие туманы, рисованные облака, комки теней и прозрачностей. Если потрогать купол, руки пройдут сквозь, как в голограмму, и никакого касания не случится.
Где твое тело? В городе. На бесконечном полу, плывет по земле. Можешь различать? Да, но не собирать. Нельзя собрать образы или ощущения, зажать в ладонях как сбор трав, горсть воды, охапку объектов.
Не сразу распознал, что есть некто, тянущий за веревки, благодаря которому и получается перемещение. Он и катает на санках по вывернутому куполу. Когда лежишь, его не видно, а поднять голову нельзя, а если бы и было можно, ничего бы не увиделось, — зрение не в голове, а в другой телесности, а в ту телесность не проникнуть физическим усилием.
«Дальше» скрытый фрагмент, и поэтому непонятно, как это существование проходило во времени. Как только проявилась возможность действия и купол притянул к себе, почувствовалось, что по нему можно размазаться; тело собралось в нечто новое, увидел себя со стороны, лежащим на доске, которую тянут две большие серые птицы. Этот «некто» оказался не один, их было двое, они монотонно тащили, но не бесконечный пол, а скорее деревянную дверь, на которой лежал «я».
Не бойся, мы твои мама и папа.
Это они, видимо, поняли, что я могу их разглядеть, сказали и успокоили.
Мы тебе насыплем в глаза песок, чтобы прочистить, чтобы ты лучше видел и спокойно жил.
Прошло несколько недель с момента написания текста про птиц и песок, того, что начинается с «Проснулся в 2:43». Вечером шел мимо стройки, там, где постоянно разгружают машины с материалами, цепи-заборы и бетонные балки. Вечером светло из-за летнего свечения, не яркого, а темного, бирюзового, втягивающего. Будто просвечивается внутренность неба, воздух становится подвижным, наделенным ожиданием. Рядом шли трое: два мужчины, одна женщина, средних лет. Они шли и играли, мужчины веселили женщину своим настроением, да вообще непонятно чем, так обычно: изображается некая уверенность в жизни, и она улыбается от ощущения правильности существования. В один момент подул ветер, поднял и закружил песок с земли. Женщина остановилась, сказала «это попадает в глаза», мужчины эту фразу обыграли, один пошутил… как же он пошутил — не помню, а другой утвердительно посмотрел с кривой улыбкой. Им было явно приятно втроем. Когда подул ветер, я тоже почувствовал песок на лице, как живую руку, рассыпающуюся после прикосновения. Нас с вами трогает небо, бросая крошки земли на лица.
Дома, когда уже лег, чтобы уснуть, почувствовал зуд в глазах, особенно в левом, будто что-то пощипывало внутренность за веками. Картинки, темные пятна, обычные мельтешения, которые сливаются с образами снов, останавливались и залипали, как зажеванные видеоклипы. Надорвалась пленка, на которой изображено всё.
Залил едкие капли с имбирем и специями, чтобы вся грязь вышла со слезами, показалось, что помогло, слегла освободило напряжение. Теперь можно укрыться и уснуть, но для этого нужно достичь неподвижности внутреннего взгляда, чтобы глаза не разглядывали темноту, иначе больно.
Утром, когда очнулся от ночных мучений, не сна, а невесть чего, почувствовал новую, глубокую боль внутри левого глаза. Боль усиливалась, когда я смотрел на светлое и далекое. Вышел на улицу и понял, что толком не могу смотреть ни на что, кроме асфальта. Природа разъедает глаза, приходится смотреть себе под ноги, на землю.
Как-то просуществовал день, в режиме замороженных фрагментов и бережного взгляда вниз. А ночью проснулся от ощущения сильнейшей тяжести закрытых глаз. Не получалось толком существовать ни с закрытыми, ни с открытыми глазами, единственное более-менее состояние наступало, когда прикрывал левый глаз рукой и смотрел на свою ладонь. Ладонь — то что осталось из безболезненных объектов, остальное разъедает. Ладонь теплая, как приятный свет, как мягкий сон или колосья пшеницы, пуховые облака.
Таксист, что вез в неотложку, сказал, что зря я туда еду, он мог бы сам набрать навокаин в шприц и мощной струей промыть, предлагал вернуться и прямо во дворе залить. В неотложке, при приглушенном зеленом свете, спросили, могу ли прочесть нижнюю строчку на стене, типа «И Ш Ы Н К», могу, дело не в этом, а что случилось, трудно описать, нельзя же сказать, что птицы насыпали песок в глаза. Через птиц предки приглядывают за нами. Сказал, что песок в глазах. Они почистили своими иголками, прописали капли, мази, вышел от них с необычным ощущением, что способен без зуда под веками закрыть глаза.