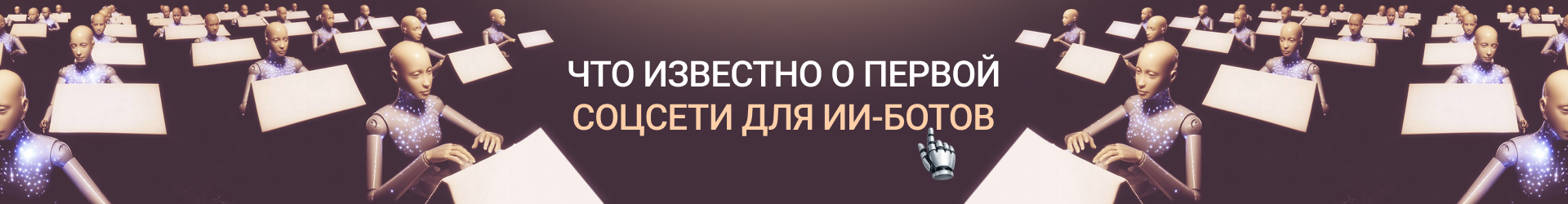«На редкость нелегкая досталась мне судьба». О жизни Ариадны Эфрон — дочери Марины Цветаевой
Ариадна Эфрон — единственная из детей поэтессы Марины Цветаевой, кому удалось дожить до зрелого возраста. Несмотря на талант художницы и переводчицы, она так и не смогла выйти из тени матери и посвятила жизнь сохранению памяти о Цветаевой. Ирина Меркулова рассказывает о ее взрослении, юности во Франции и 15 годах в лагерях и ссылке.
Как Цветаева воспитывала своих детей
В шесть лет, в 1918 году, Ариадна в обязательном порядке пишет одну страницу дневника в день. Пробует себя в поэзии. Мать требовательна, считает, что дети должны быть взрослыми героями, и Аля всегда старалась соответствовать духу дома Цветаевой.
Марина Цветаева, «Ответ на анкету», 1926 год:
«Главенствующее влияние — матери (музыка, природа, стихи, Германия. Страсть к еврейству. Один против всех. Heroïca). <...> Более скрытое, но не менее сильное влияние отца. (Страсть к труду, отсутствие карьеризма, простота, отрешенность.) Слитое влияние отца и матери — спартанство. Воздух дома не буржуазный, не интеллигентский — рыцарский. Жизнь на высокий лад».
На вопросы знакомых, не голодна ли она, Аля всегда отвечает с твердостью: «Нет!» И только в гостях, если нет рядом матери, она жадно ест, торопясь, захлебываясь, забыв обо всём на свете. А доев, робко просит тоненьким голосом: «Еще, пожалуйста!»
Ее младшая сестра Ирина так и не смогла стать частью мира Марины и Ариадны, не столь стремительная в развитии, вечно просящая из своей кроватки «чаю и куска сахару», напевающая однотипные мелодии и так и не начавшая к трем годам связно говорить, она умерла от голода в Кунцевском приюте для детей-сирот зимой 1919 года.
Взрослая Ариадна Эфрон вспоминала об Ирине:
«Девочка была милая, кудрявая, лобастенькая. Прелестная девочка, вовсе не вундеркинд».

Запись из дневника Марины Цветаевой от 14 июля 1919 года:
«Третьего дня узнала от Бальмонта, что заведующий „Дворцом Искусств“, Рукавишников, оценил мое чтение „Фортуны“ — оригинальной пьесы, нигде не читанной, чтение длилось 45 мин., может, больше, — в 60 руб. Я решила отказаться от них — публично — в следующих выражениях: „60 руб. эти возьмите себе — на 3 фунта картофеля (может быть, еще найдете по 20 руб.!) — или на 3 фунта малины — или на 6 коробок спичек, а я на свои 60 руб. пойду у Иверской поставлю свечку за окончание строя, при котором так оценивается труд“».
В октябре 1919 года цена на хлеб достигла 140 рублей. Впрочем, хлеба на рынке нет. А в ноябре по совету знакомых Цветаева отдает дочерей в Кунцевский приют.
Быт семьи в 1918–1920 годах соотносился с постреволюционными реалиями: Москва голодала, в домах жгли мебель и книги, Цветаева регулярно продавала вещи, чтобы прокормить себя и детей.

Так выглядел день из жизни Али, Марины и Ирины зимой и весной 1919 года:
«Маршрут: в детский сад (Молчановка, 34) занести посуду, — Старо-Конюшенным на Пречистенку (за усиленным [питанием]), оттуда в Пражскую столовую (на карточку от сапожников), из Пражской (советской) к бывшему Генералову — не дают ли хлеб — оттуда опять в детский сад, за обедом, — оттуда — по черной лестнице, обвешанная кувшинами, судками и жестянками — ни пальца свободного! и еще ужас: не вывалилась ли из корзиночки сумка с карточками?! — по черной лестнице — домой. — Сразу к печке. Угли еще тлеют. Раздуваю. Разогреваю. Все обеды — в одну кастрюльку: суп вроде каши. Едим. (Если Аля была со мной, первым делом отвязываю Ирину от стула. Стала привязывать ее с тех пор, как она, однажды, в наше с Алей отсутствие, съела из шкафа полкочна сырой капусты.) Кормлю и укладываю Ирину. Спит на синем кресле. Есть кровать, но в дверь не проходит. — Кипячу кофе. Пью. Курю. Пишу. Аля пишет мне письмо или читает. Часа два тишина. Потом Ирина просыпается. Разогреваем остатки месива. Вылавливаю с помощью Али из самовара оставшийся — застрявший в глубине — картофель. Укладываем — или Аля или я — Ирину. Аля идет спать».
Взрослая Ариадна Эфрон так вспоминает этот период:
«Летом мы очень много гуляли. Часто ходили в зоологический сад, хотя тяжело было смотреть на голодающих зверей в клетках».
Подруга и ровесница Али Наталья Зайцева-Соллогуб писала об их быте:
«Обстановка у них была кошмарная. Цветаева жила тогда одна с девочкой. Она с ней обращалась жестоко. Аля была в ужасном виде. Она ее сажала на стул, связывала сзади руки и пихала в рот пшенную кашу. Аля не могла глотать, держала все во рту, а потом выплевывала все под кровать. И под кроватью были крысы».
Зачем Цветаева отдала своих детей в Кунцевский приют
Зима 1919/1920 года была самой голодной. Поначалу Цветаевой казалось, что она сможет прокормить дочерей. Знакомые не могли ничем помочь и только уговаривали ее отдать девочек в специальное учреждение — все были убеждены, что там дети смогут полноценно питаться и будут находиться под наблюдением врача. Выбор пал на Кунцевский приют. Однако приют этот был для сирот, и чтобы детей приняли, их пришлось выдать за чужих. Вот как Цветаева объясняла семилетней Але эту инсценировку:
«— Аля! Понимаешь, все это игра. Ты играешь в приютскую девочку. У тебя будет стриженая голова, длинное розовое — до пят — грязное платье и на шее номер. Ты должна была бы жить во дворце, а будешь жить в приюте. Ты понимаешь, как это замечательно?
— О, Марина! — восклицает Аля.
— Это — авантюра, это идет великая авантюра твоего детства. Понимаешь, Аля?
— Да, Марина, и я надеюсь, что смогу Вам откладывать еду. А вдруг на Рождество дадут что-нибудь такое, что нельзя будет сохранить? Вдруг — компот? Тогда я выловлю весь чернослив и спрячу».
14 ноября 1919 года Марина вместе с дочерьми и Лидией Тамбурер, женой главного врача Кунцевского госпиталя, едет в приют, для Али собрана туда маленькая библиотечка. Именно Тамбурер и ее муж расхваливают Цветаевой приют. Вопреки ожиданиям еды в приюте будет постоянно мало, а для чтения — никаких условий. По воспоминаниям Ариадны, преступником оказался впоследствии расстрелянный директор приюта (воровал деньги, отправленные детям, а его жена — Тамбурер — призывала отдавать детей для большей помощи). Первое, что, приехав в приют, видит Цветаева:
«Ободранная черная собака ест из помойного ведра. За домом наблюдает надзирательница. Дети в грязных длинных платьях, фуфайки в дырах. Большие животы. Почти бессмысленные лица».
Надзирательница смотрит на Цветаеву с подозрением, не веря, что это чужие дети — слишком чисто одеты. Лидия Тамбурер оправдывается и выдает Марину за крестную мать девочек.
Что случилось с детьми в приюте
Десять дней спустя Марина будет идти по Собачьей площадке неподалеку от Борисоглебского. Ее окликнет девочка лет десяти.
— А ваша Алечка по вас скучает, плачет!
Девочка приехала из приюта вместе с заведующей в Лигу спасения детей. Марина расспрашивает заведующую о дочерях и слышит:
«Аля — очень хорошая девочка, только чрезмерно развитая, я нарочно с ней не разговариваю, стараюсь приостановить развитие, Ирина явно дефективный ребенок. Ест она ужасно много, и все качается, все поет...»
О голоде в приюте Цветаева не догадывается и даже в эти дни отдает семье Константина Бальмонта рисовую кашу, только что полученную по карточке, — сама не хочет, а «дети перекормлены», как напишет она в дневнике.
До приюта Цветаева всё-таки доезжает и видит ужасную картину: больных детей, к которым так и не пришел доктор, нет ни градусника, ни лекарств, Аля в лихорадке и слезах, с Ириной они спят в одной постели, но Аля жалуется: «За ночь Ирина не меньше трех раз... и прямо в постель!» В речи младшей дочери появилась яростная фраза: «Не дадо!» Цветаева понимает, что главврач Кунцевского госпиталя Павлушков и его жена Лидия Тамбурер, выдавшая девочек Цветаевой за ее крестниц, обманули ее, соблазнили обещаниями «риса и шоколада». С собой она не взяла ничего из еды, а каша уже отдана Бальмонтам.
В приюте по утрам кормят водой с молоком и половинкой сушки, днем — водой с несколькими листами капусты, второе блюдо — ложка чечевицы, дети едят его по крупице — так вкуснее, хлеба нет, воды тоже. Девочка на соседней с Алиной кровати стонет от голода, вокруг — грязь, под ногами чернеет пол. Несмотря на это, Аля из последних сил выполняла требование матери о ежедневном написании одной страницы: героизм — ценность, воспеваемая Цветаевой. Аля считает это настоящим героизмом.
В дневнике тех дней всё же появляются жалобы:
«Марина! Как обидно, как горестно... Я знаю, что если бы вы знали, как я здесь живу, вы бы давно приехали ко мне... Я у вас была совсем сыта, а здесь — ни капли! Я повешусь, если вы не приедете ко мне...» и «Мамочка! Я погибаю в тоске. Ирина сегодня ночью наделала за большое. Я с ней спала. Заведующая очень милая и довольно строгая женщина. Я пол ночи не спала, думала об Вас. Мамочка! Живется мне довольно хорошо. Не тоскуйте. Я Вам верна и люблю Вас. О милая приемная мама! О как Вы хороши». На следующий после свидания с детьми день Цветаева забирает Алю из приюта, месяц у дочери будет держаться высокая температура, в этот период находятся те, кто им помогает, в дневнике Цветаева пишет: «Мне сейчас нужно, чтобы кто-нибудь в меня поверил... Люди заходят и приносят Але еду — я благодарна, но... никто — никто — никто за все это время не погладил меня по голове».
Почему Ариадна Эфрон конфликтовала с матерью
В начале мая 1922 года Цветаева с Ариадной покидают Москву и отправляются в Берлин — столицу русской эмиграции. Пребывание там было недолгим, уже осенью 1922-го они перебираются в Прагу.

Там у Цветаевой родится сын. Спустя полтора месяца после рождения Георгия, в марте 1925 года, Цветаева в дневнике напишет:
«Мальчиков нужно баловать — им, может быть, на войну придется».
С рождением сына дочь Ариадна отходит на второй план и их крепкая связь начинает рваться. В Праге Аля учится в русской гимназии — это первое ее учебное заведение, ей 11 лет. Учеба продлится недолго, 31 октября 1925 года Цветаева увозит детей в Париж, «потому что там обещают устроить выступление (заработок) и — потому что там друзья». Там Ариадна с семьей проживет до 1937 года.
Париж
«Писала ли я Вам про Алину школу? Она делает огромные успехи, — pas de géant! — никогда не учившись, великолепно и сразу овладела гипсом — сначала орнаментом, теперь — фигуры. Недавно принесла мне чудесную голову льва. Ездит через день, на 3–4 часа.
Школа недорогая: 20 франков в месяц, один день барышни, другой день — молодые люди. Мудрое распределение в городе, где все направлено на разницу полов».
Так напишет Цветаева о начале Алиной учебы в 1926 году своей подруге Анне Тесковой.

Ариадна начала отдаляться от матери, к тому же она потеряла свой детский облик, ту себя, которая боготворила мать и старалась во всём ей нравиться. В разговоре с исследовательницей жизни и творчества Цветаевой Вероникой Лосской Ариадна вспоминает об этом:
«Меня она то любила, то разлюбляла... Никогда не было простых отношений: мать — дочь. Материнство ее всегда выливалось преувеличенно, на кого-нибудь другого. Когда я была маленькой, я была вундеркиндом. Когда я стала взрослой, она продолжала относиться ко мне, как к маленькой. В моем воспитании возникли трудности, когда я подросла. У мамы всегда было так: я и поддерживала ее во всем, и работала, и вела хозяйство, чтобы она могла писать».

К середине 1930-х, в период парижской жизни семьи, Цветаева видит, что дети, которых она надеялась вырастить похожими на себя, «выросли не похожими ни на мать, ни на друг друга».
Экзальтированная любовь Ариадны к матери уходит, она превращается в самодостаточную девушку, у нее способности к рисованию, ее рисунки принимает редакция модного журнала. Помимо этого Аля вяжет на заказ вещи. Она учится в Школе рисования при Лувре, но не оканчивает ее и неожиданно устраивается на работу — ассистенткой зубного врача. И, конечно, Аля живет парижской жизнью, которая так неприятна Цветаевой.
В это время отношения матери и дочери обостряются. Аля уходит из дома и год живет по разным знакомым, Цветаева припоминает прошлое, вспоминает Ирину и осуждает всех, кто кажется ей виновным в ее смерти.
«Я есть, а Аля — неизвестно, будет она или не будет, поэтому ничего Але, все мне!» — вспоминала знакомая тех лет Муна Булгакова.
Поэтесса писала Вере Буниной:
«Ей просто хочется весело проводить время, новых знакомств, кинематографов, кафе — Парижа на свободе».
Для Цветаевой это значило «убеганье от самой себя», «душевную лень» и подпадение под «стандарт парижской улицы». Созависимые отношения матери и дочери отмечает поэт и критик Александр Туринцев:
«Она искала и хотела создать ту душу, которая ее поймет и разделит ее чувства до конца. Не нашла она этого в дочери: она дочерью владела до 11–12 лет, потом Аля стала созревать и послала ее к черту, а до этого Аля была ее подругой».

В одном из писем Цветаева воспроизводит диалог с дочерью:
«— Аля, ты знаешь, кто я и что я. Мне нужно два часа утром для писания. У меня никого нет на выручку...
— А Вы думали — я всю жизнь буду служить у Вас бесплатной домработницей?»
Из семейной квартиры в Кламаре, пригороде Парижа, Ариадна уйдет после ссоры в феврале 1935 года. Цветаева напишет Тесковой:
«И ни оглядки на меня — поэта! Ведь она знает, что, уходя из дому, обрекает меня на почти-неписание... — всё на мне».
Приятельница Цветаевой Александра Туржанская так вспоминает отношения матери и дочери:
«С Алей были трудные отношения: Марина ее раздавливала. У Али был огромный талант. Воспитанием детей Марина не занималась. Она была большой поэт. И это всё в ней заволокло. Мура она обожала и баловала, а к Але была сурова. Аля училась рисованию. Домашняя работа ее душила».
Так же вспоминает парижский период знакомая семьи тех лет Вера Гучкова:
«Аля дома была перегружена, как настоящая домработница. Как я ее помню, она открывает дверь, всегда в переднике, всегда вытирает руки, потому что мыла посуду или стирала белье. Все определялось тем, что Марина создает ПОЭЗИЮ».

В декабре 1935 года, на вечере чтения цветаевских стихов, с Алей случайно знакомится писатель Иван Бунин, он не знает, что она дочь Цветаевой. Бунин приглашает ее к себе на обед и, узнав, кто она, конечно, не отменяет приглашения.
После обеда Бунин приглашает Ариадну на воскресный киносеанс. В письме Тесковой Цветаева отметит:
«Ему — 67 лет, ей — 22, т. е. втрое. Что? Душа? („Милая барышня“...) Ум? — Нет, двадцать лет».
Сама Цветаева не вхожа в дом Бунина, с ним у нее прохладные отношения, несмотря на приятельство с его женой Верой.

Как НКВД вербовал французских эмигрантов и продвигал через них идею возвращения на родину. Роль Ариадны Эфрон
Организация «Союз возвращения на родину» существовала в Париже с 1925 года, но особой активности не проявляла. Отец Ариадны Эфрон запросил советский паспорт и в ответ на эту просьбу получил от советского полпредства — по сути, от спецслужб — предложение реорганизовать «Союз возвращения на родину», то есть объединить эмигрантов, желающих вернуться, а саму организацию превратить в центр советского влияния во Франции. К этой задаче с энтузиазмом подключается идеализирующая Советский Союз Ариадна.
Быт, бедность, теснота и постоянные ссоры в семье стали для нее невыносимыми, и ей кажется, что единственный возможный выход — вернуться в СССР, ведь долг русского интеллигента — разделить со своим народом все испытания.
Проект «возвращенчества» был затеян прежде всего для раскола русского эмигрантского сообщества. В библиотеке «Союза» можно было на льготных условиях подписаться на многие советские издания, вся свежая пресса была в свободном доступе, устраивались показы нового советского кино, эмигранты подписывались на советские займы и при скромных доходах собирали деньги для родины: например, на строительство советских самолетов-гигантов — в июле 1935 года они перечислили три тысячи франков на адрес газеты «Правда» в фонд постройки таких самолетов. Многие мечтают вернуться в «самую справедливую страну на свете».
В «Союзе возвращения на родину» Ариадна смотрит кино, участвует во встречах, лекциях и репетициях спектаклей, помогает оформлять печатные издания, работает в редакции подчиненного организации журнала «Наш Союз», а к 1935 году становится одной из самых активных участниц, организовывая при «Союзе» молодежную группу.
16 марта 1937 года в радостном настроении Ариадна Эфрон уезжает с парижского Gare du Nord в Москву. Из Москвы родным и друзьям приходят восторженные письма — на родине она идеализирует абсолютно всё.
Замечательные рабочие, прекрасные театры, неповторимые дома, а на Красной площади повешен огромный портрет Пушкина, 1937 год — сто лет со дня смерти поэта. «Во всей Москве сейчас нет ни одного человека, который не знал бы Пушкина», — пишет она.

В августе 1937 года в журнале «Наш Союз» опубликовано письмо из СССР, подписанное только именем: Аля. Автор этого эмоционального, сродни агитке, письма Ариадна Эфрон:
«Как я счастлива, что я здесь! И как великолепно сознание, что столько пройдено и что всё — впереди! В моих руках мой сегодняшний день, в моих руках — мое завтра, и еще много-много-много, бесконечно много радостных „завтра“...»
Литератор и близкая знакомая Ариадны Эфрон Ирина Емельянова отмечает, что «никогда не говорила с ней всерьез о смысле жизни, о ее идеалах. Все шуточки, и как-то разумелось само собой, что испивший такую чашу страданий не может оправдать большевистский холокост. Не может человек ее сердца произнести: „Лес рубят — щепки летят“, „не в белых перчатках делают революцию“. А ведь произносила».
Летом 1937 года Ариадна начинает работать во франкоязычном московском издании Revue de Moscou. В 1960-е в письме Павлу Антокольскому она вспоминала об этом так:
«Бедный журнальчик на мелованной бумаге подчинял свое врожденное убожество требованиям сталинской цензуры; лет мне было совсем немного и все меня за это любили, так что я жила радостно и на все грозное лишь дивилась...».
В 1938 году Ариадну Эфрон и ее сбежавшего из Франции отца поселяют на государственной даче в подмосковном Болшеве. Обитатели дач НКВД, как правило, уже находились под колпаком, не могли распоряжаться своими судьбами и были обречены на арест.
Аресты
Многие из окружения семьи Ариадны Эфрон арестованы: сестра Марины Цветаевой Анастасия и ее сын Андрей, гостивший у матери, когда за ней пришли; муж Веры, сестры Сергея Эфрона; парижский друг Ариадны, так же, как она, вернувшийся на родину, Юз Гордон; литературовед Наталья Столярова; член парижского «Союза возвращения на родину» Николай Романченко... В этот период Аля работала в созданном Михаилом Кольцовым «Жургазе», в редакции франкоязычного еженедельника Revue de Moscou. Там она встретила своего возлюбленного, Самуила Гуревича, работавшего в журнале «За рубежом». Они строили планы на жизнь, несмотря на то, что Гуревич был пока еще не разведен. Аля и Гуревич постоянно вместе, они гуляют по Москве, он помогает ей нести сумки и провожает прямо до дома в Болшеве.
23 августа 1939 года приезжают за Алей. В этот день на даче с ночевкой остался Самуил Гуревич. Приехали ночью и начали стучать в дверь: «Милиция! Проверка паспортов!» Дверь открыла Цветаева. Трое в штатском спросили Ариадну Эфрон, Цветаева провела их в комнату дочери. Проснувшаяся Аля протянула паспорт, сразу после осмотра визитеры сказали: «Теперь мы будем делать обыск».
Цветаева описала этот эпизод:
«Аля веселая, держится браво. Отшучивается. <...> — Где ваш альбом? — Какой альбом? — А с фотокарточками. — У меня нет альбома... — У каждой барышни должен быть альбом! <...> Наконец, слово: Вы — арестованы... Аля уходит, не прощаясь! Я — Что ж ты, Аля, так, ни с кем не простившись? Она, в слезах, через плечо — отмахивается. Комендант (старик, с добротой) — Так — лучше. Долгие проводы — лишние слезы...»

Спустя месяц после ареста и многочисленных пыток Ариадна Эфрон дает признательные показания о том, что была завербована французской разведкой и заслана в Советский Союз со шпионским заданием. В июле 1940 года ее осуждают на восемь лет лагерей по статье 58, шпионаж.
Даже находясь в лагере, Ариадна Эфрон считала произошедшее нелепой случайностью, ошибкой системы:
«Я не настолько глупа и мелка, чтобы смешивать общее с частным, то, что произошло со мной, — частность, а великое великим останется».
«Ошибка» или «вредительство» на местах — за это цеплялись многие арестованные, верящие в советскую власть. Это помешательство на «вредителях» поддерживалось всей системой пропаганды.
До начала 1941 года Ариадну продержат во внутренней тюрьме на Лубянке, свой приговор она узнает только к концу 1940-го. Первую половину срока она работала в Исправительно-трудовом лагере Коми АССР, там она шила белье, позднее за отказ быть осведомителем ее отправили в штрафной лагпункт на Крайний Север, где она работала на лесоповале. В 1944 году ее этапируют в Мордовский лагерь, в Потьму, по предположениям некоторых биографов, переезду Ариадны Эфрон в этот чуть более легкий по своим условиям лагерь способствовал ее возлюбленный Самуил Гуревич; там она занимается росписью ложек. Из лагеря Ариадна освобождается в августе 1947 года и получает так называемый паспорт «минус 38» — по числу крупнейших городов, закрытых для осужденных.
После лагерей Ариадне удалось устроиться преподавательницей графики в Рязанское художественное училище. Наступают полтора года покоя, она преподает, ее ученики восхищаются ей и очень к ней привязываются. Там же работает преподавательницей английского вернувшаяся из тюрьмы и получившая паспорт «минус 38» Ада Федерольф, в будущем верная подруга и спутница Ариадны, а пока Ада изредка видит на улицах Рязани красивую девушку с большими глазами, к которой не решается подойти.

Смерть Сталина
В 1949 году по стране пошла волна повторных арестов, Ариадну Эфрон приговаривают к пожизненной ссылке в село Туруханск Красноярского края. Туда же ссылают и Федерольф, с которой они знакомятся в рязанской пересыльной тюрьме и впоследствии попадают вместе на этап.
Население маленького города Красноярского края, стоящего на Енисее, Туруханска заранее предупредили, что едут враги народа, которым нельзя доверять и давать ответственную работу. Прибывшим ссыльным отводилась неделя на поиски занятия, тех, кто не нашел работу, отправляли дальше на север, в рыболовецкие колхозы или на незавершенные стройки.
В начале 1950-х пошли слухи, что Сталин высказывается об уничтожении всех репрессированных. Весть о смерти вождя пришла в Туруханск по радио. Ада Федерольф пишет:
«Я тогда работала счетоводом в стройконторе. Мы все столпились у репродуктора. Молчали. Некоторые ошеломленно лепетали: „Какой ужас“. Не смотрели друг на друга, чтобы не выдать тайных мыслей. Были и такие, которые рыдали: „Отец родной, как же ты покинул нас!“ А местные власти совершенно растерялись и запрашивали по инстанциям, как быть. Мы с Алей и радовались, и страшились новых перемен. Нервы были натянуты до предела».
Спустя некоторое время после смерти Сталина Ариадна Эфрон была вызвана к следователю по делам госбезопасности. Лейтенант спрашивал Алю о следователе Рюмине, который ее допрашивал, лейтенанта интересовало, не использовал ли Рюмин пытки при допросе. Рюмин, конечно, использовал, Ариадна не сразу смогла сказать о «недозволенных методах» допроса, поскольку каждый обвиняемый подписывал документ о неразглашении, предметом неразглашения были в том числе пытки.
Оказалось, что следователь Рюмин арестован как враг народа за злоупотребления и самоуправство во время ведения допросов, из центра пришел запрос, нет ли среди туруханских ссыльных тех, кто прошел следствие у этого самого Рюмина. В 1954 году Рюмина, обвиненного в фальсификации следственных материалов, расстреляли.
В Туруханске Ариадна работала уборщицей в школе, Ада устроилась ночной судомойкой в столовую аэропорта.
Только после смерти Сталина Ариадна, сумевшая завоевать доверие местных жителей, получила работу в клубе: устраивала концерты, детские утренники, вечера танцев и праздники, где главными действующими лицами были местные. Клубом была двухэтажная пристройка к ангару — неотапливаемому зрительному залу. Активность клуба сводилась к постановке пьес, работе над обязательной стенгазетой, организации собраний и рисованию задников к спектаклям, агитационных плакатов и лозунгов. Часто Ариадна работала в ангаре, рисуя очередную декорацию на ледяном полу и отогревая кисти и руки в принесенном из дома ведре с кипятком.

Из письма к Елизавете Эфрон от 12 октября, 1953 года:
«Много работаю, а все без толку, и все сделанное проходит бесследно, как уходит вода, ежедневно приносимая мною с реки. Все же на редкость нелегкая досталась мне судьба, и не в том дело, что просто нелегкая, а в том, что тяжесть эта — бессмысленна, как говорится — ни себе, ни людям! Ну, не буду больше ворчать, слава Богу, хоть это-то не в моем характере. Учитывая мою тяжелую долю, создатель для равновесия дал мне легкий характер — с которым, авось, и доживу до лучших дней».

Работа над первым советским изданием сочинений Марины Цветаевой
Вскоре после смерти Берии Але должны были выдать паспорт — статус ее, как и всех ссыльных, начал меняться со сменой власти. В какой-то момент на очередном спектакле она удостоилась отдельных аплодисментов, зал кричал: «Браво художнику!» Представить такое было невозможно. В райкоме издали приказ с вынесением благодарности товарищу Эфрон за образцовую культмассовую работу. Многих ослабление режима подтолкнуло всерьез задуматься о возвращении в родные города и воссоединении с близкими, все стремились поскорее уехать из Туруханска. Это была весна 1955 года.

После освобождения Ариадна Эфрон вернется в Москву, где будет зарабатывать переводами французской поэзии, а практически всё свободное время посвятит собиранию материнского архива и сохранению памяти о Цветаевой.
Первая советская публикация избранных произведений Марины Цветаевой была запланирована Гослитиздатом на 1957 год, этому содействовали писатель Эммануил Казакевич и литературовед Анатолий Тарасенков.
В своих мемуарах Надежда Мандельштам называет Тарасенкова «изничтожителем» и дает емкую характеристику:
«Это был хорошенький юнец, жадный читатель стихов, с ходу взявшийся исполнять „социальный заказ“ на уничтожение поэзии и тщательно коллекционировавший в рукописях все стихи, печатанью которых он так энергично препятствовал».
Тарасенков писал о лирике Анны Ахматовой как об «ущербной, пессимистической, лишенной исторической перспективы», а поэзию Мандельштама охарактеризовал для «Литературной энциклопедии» так:
«Огромная сила инерции, сохранявшая сознание Мандельштама нарочито отгороженным от процессов, происходящих в действительности, — дала поэту возможность вплоть до 1925 г. сохранить позицию абсолютного социального индифферентизма, этой специфической формы буржуазной вражды к социалистической революции. Для этого периода чрезвычайно характерно большое стихотворение „Нашедший подкову“ [1923], где декларирован принцип инерции как „извечной“ категории. Новизна происходящего подчеркнуто отрицается: „Все было встарь, все повторится снова, / И сладок нам лишь узнаванья миг“. <...> Классовая логика этой творческой концепции сводится к довольно распространенному среди буржуазных идеологов и художников „приему“ отрицания реальности перемен, вызванных Октябрем».
К этому человеку, Анатолию Тарасенкову, и его жене, в будущем исследовательнице творчества Цветаевой Марии Белкиной, пришла в 1955 году Аля с идеей сделать посмертный цветаевский сборник. Так описывает эту встречу Белкина:
«Еще когда мы стояли посреди кабинета, обмениваясь словами приветствия, Аля, прямо глядя в глаза Тарасенкову, сказала:
— Я пришла к вам от Эренбурга, он сказал, что он вас не уважает за ваши статьи, но уверен в том, что вы искренне любите поэзию, и потом, лучше вас никто не знает Цветаеву, и никто, кроме вас, не может мне помочь! Я хочу издать мамину книгу...
Сказала мягко, но твердо, дав понять, что она тоже не уважает Тарасенкова за его статьи, но пришла просить его помощи.
Тарасенкову пришлось проглотить эту пилюлю, впрочем, приходилось ему это делать не раз и, к его чести, надо сказать, что он никогда не обижался на правду, ибо и сам хорошо сознавал, что у него были статьи, за которые он уважения не заслуживал. Мне было больно за него, ибо я знала, как мало оставалось ему жить, но говорят: что посеешь, то и пожнешь...»
«Подлецы они все — и покупающие, и продающие»
В письме Борису Пастернаку в октябре 1955 года Ариадна писала о совместной с Тарасенковым работе над сборником:
«...Заканчиваю подготовку предполагаемого маминого сборника, это очень трудно, и ты знаешь, почему. С неожиданной горячностью предлагает свою помощь Тарасенков, и просто по-хорошему Казакевич, а больше никому и дела нет. Тарасенков, тот, видно, думает, что если выйдет, то, мол, его заслуга, а нет, так он в стороне и ничего плохого не делал. Со мною же он мил, потому что знает о том, что у меня есть много маминого, недостающего в его знаменитой „коллекции“. Есть у него даже перепечатанные на машинке какие-то мамины к тебе письма, купленные, конечно, у Крученых. Подлецы они все — и покупающие, и продающие. <...> Боже мой — мама, вечная моя рана, я за нее обижена и оскорблена на всех и всеми и навсегда, ты-то на меня не сердись, ты ведь все понимаешь...»
Анатолий Тарасенков же, по утверждению Ариадны Эфрон, настоял на подготовке посмертного издания и с поэмами, и с пьесами, и с прозой. Сама она не верила в возможность подобного — полноценного — издания. Эммануил Казакевич и Анатолий Тарасенков вместе ездили к директору Гослитиздата Анатолию Котову и настояли на включении сборника в план издательства в 1957 году.
Однако и тогда книга не вышла — против ее выхода и пагубного влияния поэзии Цветаевой на молодежь высказался ряд писателей, в том числе главный редактор журнала «Нева» Елена Серебровская:
«Прошу поинтересоваться судьбой этой книги и в особенности вступительной статьей Эренбурга. Седины мы уважаем, но общественные интересы должны стоять выше».
И снова книгу отправили на дорецензирование, а затем проект и вовсе был отложен.
Только в 1961 году в серии Гослитиздата «Библиотека поэта» в сокращенном виде, без пьес и поэм, выходит первое посмертное издание стихов Марины Цветаевой «Избранное». Имя работавшей над сборником и комментариями к нему Ариадны Эфрон не упомянуто, вступительная статья принадлежит советскому литературоведу Владимиру Орлову.
Ревность к наследию матери
«Не думайте, что, говоря о „цветаевском“ контроле, много на себя беру, — пишет Ариадна Эфрон Марии Белкиной в 1961 году. — Дело в том, что я — последний живой свидетель всей маминой жизни и всего ее творчества (за исключением трех последних лет), я наизусть знаю ее отношение к каждой вещи, и меня она звала своим абсолютным читателем. Только поэтому я за тщательный (всесторонний) отбор произведений (в том числе и за политический). За рубежом маму издают безобразно, сенсационно, и тоже кто-то там себе карьерку делает на этом... И этого, то есть скороспелого „первооткрывательства“, хочется избежать — хотя бы у нас».
Тогда же Ариадна Эфрон принимает решение закрыть архив РГАЛИ до конца XX века. Только с 2000-х годов начинают появляться в печати переписка Марины Цветаевой с Константином Родзевичем, Анной Тесковой, Верой Буниной, дневники сына Цветаевой Георгия Эфрона и его переписка с Ариадной Эфрон, записи самой Марины. Автор одной из самых известных и детальных биографий поэта Мария Белкина пыталась переубедить Ариадну Эфрон и с сожалением отмечала:
«Чтобы понять Марину Ивановну, о ней надо знать все или почти все, иначе получится искаженное представление о ней, когда станут вдруг проникать в печать какие-то выборочные, случайные сведения о ней».
Одна из самых известных цветаеведов, филолог Ирма Кудрова в передаче «Школа злословия» высказалась за целесообразность закрытия архива писем Цветаевой от широкой публики, а сама передача запомнилась как образец высокомерного судилища («Я ненавижу письма Цветаевой и считаю их совершенно, человечески, невыносимо позорными. Я считаю, что ее переписка с Пастернаком — это факт нелестный для нашей культуры и для обоих поэтов», — говорит ведущая Авдотья Смирнова), которое по-прежнему можно встретить в отношении Цветаевой на форумах и в социальных сетях. Этого скороспешного судилища опасалась и Ариадна Эфрон, закрывая архив семьи до 2000 года.
После первых советских публикаций. Почитатели
За год до своей смерти, в 1974 году, Ариадна жаловалась Марии Белкиной:
«Слава матери мне дорого обходится!.. Лето было на редкость неудачным! Народ валом валил. Гости шли в одиночку, попарно, повзводно, туристы — поавтобусно. Спасенья нет!..»
А зимой в Москве Аля любила рассказывать всякие смешные истории об этих летних почитателях Марины Ивановны. Вот некоторые из них:
«...Шел дождь. Аля увидела в окно, как по тропке к дому гуськом направляется целый отряд пионеров в полном походном снаряжении: рюкзаки за плечами, палатки, котелки, топоры. Все сваливают у крылечка, приминая цветы, и вваливаются в дом. И деловито заявляют: „Мы хотим послушать про Марину Цветаеву!“ „Кто это мы?“ — спрашивает Аля. „Романтики!“ — отвечают хором и, шмыгая носами, мокрые от дождя, усаживаются на полу без приглашения. „А что вы читали Цветаевой?“ — спрашивает Аля. — „Ничего“. — „А что вы хотите знать?“ „Все!“ — отвечают. Аля пытается что-то им говорить, что-то читать, что полегче, попонятнее, но видит — им скучно и совсем неинтересно. Они устали, промокли, а от печки идет тепло, и они начинают дремать...»

Ариадна Эфрон и Ада Федерольф. Дружба, ставшая бостонским браком?
Сестра Марины Цветаевой Валерия Иловайская, на участке которой Ариадна и Ада построят свой общий дом, испытывала неприязнь к подругам, предположительно, из-за подозрений в гомосексуальном характере их отношений. В те времена, когда многие женщины были объединены опытом совместного прохождения лагерей и ссылок, лесбийская связь, с точки зрения обывателя, считалась нездоровым и печальным следствием изоляции. Сама Федерольф в своих воспоминаниях «Колыма. Первый рейс» так описывает встреченные ей в месте ссылки однополые пары:
«Барак был чистый, с жалкими потугами на уют. Не было обычного большого стола посредине, а всё коечки вагонного типа, завешанные какими-то простынями, кисейками, обособленные друг от друга. В углу против двери сидел на пеньке какой-то худощавый человек с короткой стрижкой и подшивал валенки. „Садитесь“, — проговорил человек, не отрываясь от дела, и я села на другой предложенный пенек, заменявший стул. Что-то было необычным в этом бараке, и я начала незаметно осматриваться. У сапожника были быстрые небольшие руки, сам он был странным, высоким, с бледным, лишенным растительности лицом. Он так и остался сидеть вполоборота ко мне, и мне пришло в голову, что он похож на послушника, инока. <...> Рядом на нарах лежала очень молодая и с точки зрения зэка хорошо одетая женщина. Всё на ней было подогнано по росту и даже не лишено кокетства. Она теребила пуховый платок, только что снятый с головы, ноги были обуты в белые подшитые бурки. <...> Нары были покрыты чистым одеялом, на стене висела расшитая салфетка, наволочка имела надпись „Люблю только тебя“, окруженную тоже вышитыми гладью розочками. Наверно, эти вышивки, наконец, навели меня на понимание окружающего. Это были лесбиянки и жили в этом бараке парами. Та, которая изображала кормилицу, зарабатывала ремеслом деньги на то, чтобы получше кормить, а главное — наряжать подругу. Наверно, они обслуживали конвоиров, а те смотрели на всё сквозь пальцы до очередной проверки. <...> Присмотревшись к сапожнику, я поняла, что это еще совсем молодая женщина, со впалой грудью, лишенная каких-либо округлостей. Потом я узнала, что большинство ей подобных — больные слабые женщины, которых по врачебным справкам не могли послать на тяжелые работы. Были и туберкулезные. На Эльгене мне попадались среди блатнячек широкоплечие, сильные, мужеподобные девахи с грубыми ухватками и сиплыми голосами, но эти были какие-то иные — больные, беззащитные и щемяще трогательные».
Можно только предположить, что конструировало подобное отношение Федерольф к гомосексуальным женщинам. В сентябре 1933 года состоялась облава на лиц, подозреваемых в гомосексуальности, тогда арестовали 130 человек, а зампредседателя ОГПУ Ягода сообщил в докладной записке Сталину о раскрытии в Москве и Ленинграде нескольких групп, занимавшихся «созданием сети салонов, очагов, притонов и других организованных формирований педерастов с дальнейшим превращением этих объединений в прямые шпионские ячейки». Так в советском сознании гомосексуальность стала ассоциироваться со шпионской деятельностью, а именно за шпионаж по статье 58 были осуждены и Ариадна Эфрон, и Ада Федерольф.
Была популярна и статья Максима Горького «Пролетарский гуманизм», опубликованная одновременно в двух крупных газетах — в «Правде» и «Известиях» — в мае 1934 года. Самым цитируемым стал пассаж, в котором гомосексуальность называлась характерной чертой приверженцев фашистской идеологии:
«Не десятки, а сотни фактов говорят о разрушительном, разлагающем влиянии фашизма на молодежь Европы. Перечислять факты — противно, да и память отказывается загружаться грязью, которую все более усердно и обильно фабрикует буржуазия. Укажу, однако, что в стране, где мужественно и успешно хозяйствует пролетариат, гомосексуализм, развращающий молодежь, признан социально преступным и наказуемым, а в „культурной“ стране великих философов, ученых, музыкантов он действует свободно и безнаказанно. Уже сложилась саркастическая поговорка: „Уничтожьте гомосексуалистов — фашизм исчезнет“».
Советские юристы и медики в 1950-е говорили о гомосексуальности, дословно повторяя аргументы германских фашистов. Упоминания лесбиянства не было ни в одном русском уголовном законодательстве до принятия в 1997 году статьи 132 УК. В сознании масс гомосексуальность, с одной стороны, была «продуктом разложения эксплуататорских классов», а с другой — симптомом некой болезни или нахождения в «неблагоприятной социальной обстановке» (это цитата из статьи «Гомосексуализм» в Большой Советской энциклопедии 1952 года), и в особенности в условиях лагерного быта и лагерного запрета на так называемую нормальную жизнь, на «здоровые» отношения, не зря Федерольф отмечает болезненность этих женщин.
Лесбийские отношения занимают особое место в культуре Серебряного века. О таких взаимоотношениях, как напишет в «Повести о Сонечке» Цветаева, «в церкви не пели и в Евангелии не писали», но разве когда-либо это было препятствием для их существования?
Именно культура Серебряного века сделала гомосексуальную любовь более видимой и, благодаря циклу Цветаевой «Подруга», повестям «Крылья» Михаила Кузмина или «Тридцать три урода» Лидии Зиновьевой-Аннибал, более понятной для непосвященных.
Очевидно, что знакомые с литературой Серебряного века Эфрон и Федерольф не могли пропустить хотя бы некоторые из этих сочинений, также обе они читали тексты Цветаевой к Софье Парнок.
История знакомства Ады Федерольф с Алей заставляет нас увидеть в этих отношениях лесбийскую подоплеку, что совсем не значит, что лесбийскими были их отношения. Вот как описывает Федерольф знакомство с Алей в рязанской тюрьме:
«Через некоторое время в эту же камеру привели молодую женщину, которую я встречала на улицах Рязани. Было двойственное чувство: страх за нее и радость, что могу с ней теперь познакомиться».

В камере Федерольф, чтобы обратить на себя внимание Ариадны, читает вслух стихи Цветаевой. Было ли это случайностью или Федерольф знала, что в Рязани обосновалась дочь поэтессы, невозможно установить точно, но из текста биографических записок Федерольф «Рядом с Алей» становится очевидным желание Федерольф понравиться Ариадне, быть с ней на протяжении этапа и не расставаться в ссылке. О втором муже Ада лаконично пишет:
«С мужем мы были разными людьми, связала нас только общая трудная судьба».
Вся последующая жизнь Федерольф с момента ареста в 1948 году была связана с Ариадной Эфрон. Именно Аля хлопотала о реабилитации Федерольф и ее трудоустройстве, Ада же занималась строительством дома в Тарусе и всеми хозяйственными и бюрократическими заботами, пока Аля в Москве работала над изданием произведений матери и зарабатывала деньги переводами. То, что мы сейчас можем увидеть из сохранившихся писем, документов и воспоминаний, может свидетельствовать по крайней мере о бостонском браке Ады Федерольф и Ариадны Эфрон. Вот отрывки из писем Ариадны к Федерольф 1950-х годов:
«Мой дорогой Адкин, получила, слава Богу, большое подробное письмо от тебя и на неделю успокоилась. Как я рада, что тебе стало полегче с квартирой и ты можешь отдыхать. Когда мы с тобой соберемся вместе, то заведем именно таких трех зверей. Особенно мне нравится тот, что с черными лапами» (письмо написано на открытке с фотографией трех котят. — Прим. авт. статьи).
«Спасибо тебе, дружочек, за чудный праздник, за дни, проведенные вместе, за твою дружбу, за то, что ты у меня такой славный заяц, что годы ссылки, проведенные с тобой, мне вспоминаются как сплошной праздник. Мы и дальше будем жить так же дружно и еще лучше, правда?»
«Главная моя мечта и молитва — это чтобы ты не простудилась ни на складе, ни в дороге, ни по приезде. <...> Если это, не дай Бог, произойдет, надеюсь, что у тебя хватит ума телеграфировать мне, я приеду немедленно и, уже выходив тебя, поеду к Асе».
Энн Эпплбаум в своем труде «ГУЛАГ» считает связь Ариадны Эфрон и Ады Федерольф стратегией выживания, порожденной не лагерной системой. Эту стратегию Эпплбаум причисляет к стратегиям заботы и ставит ее в один ряд с другими стратегиями, такими как интеллектуальная деятельность, занятия гимнастикой, необязательные ритуалы, например забота о своей внешности, — с чем-то, что возвращало заключенному частичку свободной жизни.
Таруса. Последняя глава

С конца 1950-х стали ходить слухи, что у владельцев усадебных участков будут изымать излишки земли и распределять нуждающимся. Эти перспективы пугали сводную сестру Марины Цветаевой, тетку Ариадны Эфрон, преподавательницу сценического искусства Валерию Иловайскую.
Опасаясь, что на участок подселят «местную с коровой и мотоциклом», тетка Валерия предложила половину участка Ариадне и ее подруге. Началось долгое, тяжелое, затратное строительство дома, во время которого оказалось, что страхи подселения напрасны, и отношения с Валерией Иловайской, и до этого не бывшие теплыми, вконец испортились. Впрочем, дом уже строился, и столько сил и средств было вложено, и такой заманчивой перспективой казался свой дом после угла в комнате тетки Елизаветы Эфрон в коммунальной квартире в Мерзляковском переулке, что решено было довести начатое до конца.Весь год до получения собственной квартиры в Москве осенью 1961-го Ариадна Эфрон жила в Тарусе и работала над архивом матери. А получив в кооперативе «Советский писатель» свое первое полноценное жилье, квартиру у метро «Аэропорт», приезжала в Тарусу поздней весной и жила до наступления осени.

Тарусский дом стал точкой притяжения для друзей, поклонников и исследователей творчества Марины Цветаевой. Именно туда пришла, прочитав подборку стихов Цветаевой в одном из периодических изданий и имея лишь фотографию дома, 20-летняя Елена Коркина, ныне литературовед, выпускница Литинститута и автор вышедшей в 2022 году книги «Ариадна Эфрон. Рассказанная жизнь». Туда приезжала специалистка по творчеству Цветаевой, многолетняя корреспондентка Ариадны Эфрон Анна Саакянц, исследовательница из Чехии Галина Ванечкова. В этом доме Ариадна Эфрон и Ада Федерольф прожили до момента смерти Ариадны от инфаркта в Тарусской больнице 26 июля 1975 года.

Так вспоминала Федерольф последние дни с Алей:
«Все у нас было ладно, и чистый уютный домик, и друзья — живи! Но Але этого было уже не дано. Она задыхалась, плохо спала, отекали ноги, и в то же время она продолжала безостановочно курить. <...> В больнице Алю положили в маленькую двухместную палату, где она почти все время была одна: ее соседка уже выздоравливала, и то ли гуляла, то ли на весь день уходила домой. Але становилось все хуже и хуже. Она не могла ни сидеть, ни лежать и едва говорила. В момент облегчения боли Аля взяла меня за руку и, целуя, говорила:
— Спасибо тебе за все, что ты для меня сделала... Теперь я не напишу больше ни строчки. О матери написала все, что смогла, об отце я знаю мало, знаю только, что очень его любила. — И промолвила, что уходит из жизни, в которой было у нее так много горького».

Могила Ариадны Эфрон находится на Тарусском кладбище. Памятник для нее по собственной инициативе сделал многолетний сосед по Тарусе, известный советский скульптор Павел Бондаренко, автор памятника Гагарину на Ленинском проспекте.
После смерти подруги Ада Федерольф не смогла находиться в доме, где всё пропахло Алиным табаком и по ночам слышался звук знакомого кашля, иллюзия, настигающая нас после смерти близкого человека, когда перестает повторяться то, к чему мы привыкли.

Дом был продан, завещанный подругой архив Ада Федерольф передала в РГАЛИ, крупногабаритные вещи и мебель раздала соседям и друзьям, часть художественного архива представлена в Доме-музее семьи Цветаевых в Тарусе.
После смерти Ариадны Эфрон Ада прожила еще 11 лет и умерла в 1996 году в возрасте 95 лет. Она похоронена в Тарусе рядом с Алей, надпись на могиле гласит: «Ада, верный друг Ариадны Эфрон». За год до смерти вышли ее воспоминания «Рядом с Алей», самый полный источник сведений о жизни Ариадны Эфрон с 1949 по 1975 год.