Сиротливый маленький унитазик, выращивание кассет из семечек и масонский заговор нойзеров: интервью с профессором шума Григорием Аврориным
«Нож» продолжает исследовать самые заповедные культурные пласты и слои: в этот раз наш особый корреспондент Павел Коркин был командирован в Ленинград, чтобы встретиться с профессором шума Григорием Аврориным и поговорить с ним о том, как делать музыкальные инструменты из дурацких китайских пистолетиков, рулей и квазимагнитофонов, выращивать кассеты из семечек и записывать нойз в огромных противоамериканских шарах.
Павел Коркин предупреждает, что хитро обманул приглашенного в этот выпуск гостя, поменяв в тексте все буквы и перемешав их в барабане стиральной машины.

— Каждый раз, когда я приезжаю к тебе в гости, вижу разнообразные инструменты: ударные, духовые, сделанные из вещей, найденных на помойке или купленных в обычных промышленных магазинах. Расскажи, с чего всё это началось?
— Причина самая банальная — безденежная юность. Денег не то что на всякие девайсы, даже на сигареты и бухло не было. Руки у меня растут не то что бы из нужного места, но выбирать было не из чего. Голь на выдумки хитра — девиз моей жизни. Если нужен инструмент, особенно узкого предназначения, для какого-то определенного звука, то зачем его покупать, а потом думать, куда его поставить? Проще то же самое сделать, а потом разобрать или разбить на концерте. Плюс философия DIY — сделай сам. Зачем тратить большие деньги? Конечно, всё это ограничивается квалификацией, пряморукостью и просто школьным курсом физики. Что можешь, делаешь сам, на остальное приходится тратиться.
Я, кстати, не так уж и много находил на помойках — мне в этом плане не очень везет. Началось всё с простых вещей. Для харшняка нужны всякие электронные приблуды, а на синтезаторы денег не было. Зато в магазинах продавались всякие дурацкие китайские пистолетики, рули, колоночки, квазимагнитофончики для детей, из которых простой заменой резистора, регулирующей тактовую частоту чипа, можно было получить множество всяких звуков. Если заменить резистор на переменный резистор, то можно все менять плавно, а в этих чипах обычно четырехбитный звук на частоте между 11025 и 22050 герц, поэтому он очень грязный и великолепно берется дисторшеном. То, что надо. Лучше, чем покупать хороший дорогой синтезатор, а потом пытаться испортить его чистейший звук. Нам этого хватало.
Мне во многом интересно электронное звучание, но тут опять же вопрос знания физики и схемотехники, а у меня его не хватает. Вообще звучать может всё что угодно, был бы звукосниматель, неважно — электромагнитный или пьезоэлектрический. Присобачить их можно к чему угодно — главное чтобы инструмент был операбельным и не создавал проблем, потому что таскать 20 килограммов в каждой руке на концерт, особенно в другой город, не очень удобно. Потом мне стало интересно и акустическое звучание, тем более что я случайно решил поставить эксперимент: что, если дурацкую туристическую дудочку увеличить до контрабасового регистра? Получилось, заработало и потянуло за собой всё остальное — еще более гнусавые дребезжащие звуки. Мне всегда нравились звуки, не входящие в хорошо темперированный клавир. По звучанию один из моих любимых инструментов — трембита. Так почему бы и нет? Трембита, зурна, карнай — вперед.
— Когда ты начал их конструировать, у тебя сразу возникла идея создать оркестр из духовых инструментов?
— Нет, конечно. Мне делать тогда особо нечего было в жизни, времени было много, я делал безо всякой цели. Потом, когда понаделанного оказалось довольно много, мне пришла в голову мысль: почему бы не записать это для фиксации в вечности? Я сразу подумал, что все эти инструменты хорошо звучат в хорошей акустике. Понятно, что в Мальтийскую капеллу никто меня не пустит никогда в жизни, поэтому надо искать другие варианты, тем более что необязательно стремиться к классической акустике.
Первые записи мы сделали в туалете репточки, который представлял собой коробку с голыми бетонными стенами, где в углу сиротливо стоял маленький унитазик. Я позвал тех людей, которым всё это было интересно, и внезапно образовалось трио, а потом квартет плюс другие желающие поиграть. Каждая запись интересна тем, что получается не то, что я хочу, — это здорово. Это действительно коллективное творчество. Чем дальше я от роли диктатора, тем лучше.
— Твои экспериментально-музыкальные потуги начались с проекта «Талонов нет» или это какие-то вещи еще из детства тянутся?
— Нет. В детстве меня музыка не особо интересовала. Мне всегда нравился джаз — это любовь на всю жизнь. Вообще я никогда не стремился быть музыкантом. Пытался научиться играть на гитаре, но я левша, праворукий инструмент мне бесполезно давать. Проектом «Талонов нет» я занимался довольно долго. Он представлял для меня интерес как некий плевок против ветра, эпатаж самого себя, я хотел заставить себя сделать то, чего я страшился. Я глубоко интровертный человек, поэтому выйти к людям и что-то сказать мне всегда было сложно. А если так, то можно действовать с космическим размахом: ценнейший опыт проекта «Талонов нет» заключался в том, что много концертов проходили в ожидании — либо нас будут бить, либо мы сыграем так, что нас будут бояться. Такой мотиватор хорошо работает. В какой-то момент из «Талонов нет» исчезли все участники, и меня позвал Фил, потому что я с ним тусовался и ходил на концерты. И всё завертелось.

— Тогда ты увлекся шумовой музыкой и дальше занимался ей уже сам?
— Это было знакомство. Меня это всё заинтересовало как некое мыслительное движение, идеология, даже не чувственное искусство, а некая фича. Я довольно поздно стал интересоваться звуком и тем, как он строится. Очень долго я больше мешал, не мог ничего сделать. В какой-то момент «Талонов нет» и состоявшиеся после него проекты перестали быть совместными, я оказался один. Делать было особо нечего, и мне действительно стало интересно разбираться, как звук делается, как он возникает, в каких условиях он существует. Тогда же пошли еще больше самоделки, потому что денег не прибавилось.
Мне была очень интересна сама физика звука, как в электрических цепях или акустических волнах возникает резонанс. Поэтому я предпочитаю в любом незнакомом месте до концерта побывать, оглядеться, посмотреть аппарат на возможности. Очень часто решение приходит именно от конкретного места — что там есть, чего нет, какой аппарат. Исходя из этого рождается некая концепция, что я буду делать. Конечно, можно на каждый концерт приходить с неким чемоданчиком, играть одно и то же, но это неинтересно; кроме того, я до сих пор не знаю, как сделать харшняк. Каждый раз приходится изобретать заново. Не могу сказать, что каждый раз получается, но мне это до сих пор интересно, и я пытаюсь.
— В этом году состоялся концерт, посвященный 1000-летию «Рускомплекта». Это, на твой взгляд, были золотые времена, когда было что-то интересное и можно было как-то реализовываться? Мне кажется, после того, как он прекратил свою деятельность, остались только однотипные клубы и мероприятия. Есть ли какие-то аналоги «Рускомплекта» сейчас?
— 20 лет назад трава была зеленее, чем 10 лет назад, когда «Рускомплект» возник. Об этом надо помнить. Всегда ностальгия присутствует.
Все мы были младше на 10 лет. Многие, кто это организовывал, таким уже не интересуются. Тарасу Волощуку это уже не надо, он стал старше на 10 лет. У него свои дела и свое творчество, которое ушло в сторону. Люди меняются — дело не в бытовухе, просто вглубь всё уходит, как на торфянике огонь. «Рускомплект» возник случайно, что круто — этакая флуктуация рынка недвижимости Санкт-Петербурга и не более. Я не считаю, что это были золотые времена, просто случайно возник некий феномен. Я рад, что рядом постоял, не считаю себя организатором — может быть, идейным вдохновителем.
— Ты же был организатором концерта Дейва Филлипса в «Рускомплекте»?
— Это было ужасно. Я очень плохой организатор, я счастлив, что всё остальное в тот приезд Филлипса организовывал Леша Ставицкий. У него получилось всё намного лучше. А мне этот день до сих пор тяжело вспоминать, поэтому я рассказывать о нем не буду. Достаточно сказать, что когда меня, трясущегося, опустошенного морально и финансово, из жалости везли домой, и на Троицком мосту кончился бензин в машине, мне пришлось под моросящим дождем и невским ветром толкать эту машину до Петропавловки, где бензоколонка.
— Знакомство с разными группами из других стран как происходило в основном? Ты переписывался с ними по почте?
— Давай начнем с базиса, осознаем простую вещь. Что я сейчас скажу — это голый циничный марксизм: чтобы какое-то явление существовало, нужно определенное количество потребителей. Чтобы делать телефоны, нужен миллион потребителей, чтобы делать айфоны — нужны миллиарды. Чтобы существовали харшняк и вообще вся эта авангардная тусовка, ни в одной стране мира не хватит потребителей, поэтому она может быть только международной. Если брать глобально, то весь этот международный заговор DIY существовать может. Никому не нужна какая-нибудь индустриальная группа из условного Шеффилда, даже если это Ramleh, если это в рамках Британии. Если это в рамках Британии, США, Японии, Европы, вообще без рамок, это сработает. Могут существовать чудовищно дорогие лейблы типа Vinyl On Demand, который великолепно издает по сути никому не известные проекты. Если в мире наберется 1,5 тысячи калек, которые купят релиз, только тогда это начинает работать.
Поэтому я всегда считал: очень плохо, что идет закукливание российской сцены внутри себя. Ну не надо идти за поганой политикой поганых политиков. Если у кого-то там санкции-сранкции в верхах, то им за это деньги платят, пусть они и занимаются. Зачем этим заниматься бесплатно? Это ограничение, невозможность общения, обрывание себе яиц, ног, рук и головы, и если не дают контачить нормально, надо искать извращенные способы. Слава богу, я это понимал всегда, тем более что я этот мирок познавал в 1990-х, когда у нас ничего не было. В Питере и Москве, условно говоря, была всего пара человек на всю страну, которые вообще знали какие-то названия. Тогда был интернет через диалап, но была почта, интересно было до безумия. Ты получаешь с другой стороны мира артефакты, а они — твое что-то, от оно как.
— Мейл-арт.
— Нет, мейл-арт — это вид искусства. А тут просто пишешь письма, договариваешься об обмене. Я никогда не продавал и не покупал — у меня нет денег на это и тупой я.
— Изначально это из одной цели растет — что мейл-арт, что такое знакомство.
— Это неважно. И может сращиваться. И у меня всегда даже получались друзья по переписке. Люди всегда друг другу писали: «Привет, давай общаться». Это и в XVIII, и в XIX веке было.
— Если конкретизировать, то с какими ты проектами в переписке?
— Сейчас я ни с кем не переписываюсь. Лет 12 назад я начал сворачивать всё это просто потому, что стал меньше записывать и делать кассет. Исчезли мотивация и желание. Я просто понял, что всё это «Привет, меня зовут... давай меняться» в какой-то момент перестало... стало рутиной. И надо бы прыгать на следующий уровень, заниматься всерьез. А это секта, реально, международный заговор масонский, ложа. Порог входа довольно высокий, могут несколько лет динамить, не отвечать, не обращать внимания, отвечать по остаточному принципу. Но потом, если туда вошел, ты уже свой, уже тебе предлагают, с тобой можно в чатике пообщаться. Когда я общался с американцами в 2008 году, у них там вдарил кризис, и я неожиданно увидел, какие у людей проблемы с недвигой в реальной жизни, не в кино, не на сайтах. Если брать тех же американцев, то я общался в первую очередь с Роном Лессардом — чудесный дяденька, абсолютный Швейк в отставке, и отставка была из ЦРУ, боже, где еще встретишь бравого цэрэушника Швейка? Если писать в США, то первым делом Рону, потому что он крутой, я его обожаю.
Общался с Phage Tapes, который меня издавал, он великолепный мужик. С англичанами общался, но с ними было сложно, потому что я иногда неудачно шутил, а они это плохо воспринимают. Общался с Миккой Аспой, естественно. Я не лез к вовсе уж гениям, потому что я их и так могу скачать. Зачем мне общаться с Гари Мунди из Ramleh? Хотя мне Ramleh безумно нравится в любой конфигурации, Broken Flag — великий лейбл был. Но зачем им писать напрямую? Они все уже состоявшиеся люди. Я могу их и так послушать. С тем же RRRecords Рона Лессарда у меня общение было такое: «Привет, Рон, вот тебе 15 кассет. Пришли мне 15 кассет на свой выбор». Он присылал много чего интересного, например, через Рона я познакомился с канадской группой Fossils и их тусовкой, которая мне нравится не только как звук, но и эстетически. Вся эта канадская тусовка мне очень нравится визуально — слепой ксерокс, действительно отходы, звучит срачно, из этой фигни они делают крутую фигню, потому что это реально фигня.
Всегда было интересно слушать что-то новое. По-моему, я только один альбом Grunt выменял у Микки Аспы, потому что я слышал, что такое Grunt, знаю его. Зачем я буду слушать еще Grunt, если есть возможность услышать Dorchester Library? У него чудесные косые лейблы — Institute of Paraphilia Studies, к примеру. Понятно, что там на обложках — не знаю, стоит ли это говорить из цензурных соображений. Там звук совсем иной, аналоговый. Это куда интереснее, чем очередной компакт-диск.
Очень часто люди говорят, что лишние знания засоряют разум и ослабляют волю, но я думаю, что лишних знаний не бывает. Я многое слушаю не ради удовольствия, а аналитически — ага, значит так можно! Это не значит, что надо плагиатить, просто еще один предел восприятия. Ведь изобретать велосипед бессмысленно. Это всё очень напоминает анекдот: сидите, ничего не знаете, писька-то по-другому называется. Мне интересно получать знания. Я всегда интересовался. В ту же самую Кунсткамеру я хожу не на уродов смотреть, а этнографические древние инструменты рассматриваю, которые из таких мест, которых на карте не найдешь, потому что они не существуют и не существовали никогда. Скопировать эти инструменты нельзя, потому что не из чего изготавливать — ну не делают струны из кошачьих кишок больше. Зато если строить свой... Это когда-нибудь всплывет, лет через 10–20. Неожиданно вспомнишь — ага, а я-то знаю, как это решить!
— Если вернуться к твоим записям, то какое количество реализованного материала вышло на физических носителях?
— На бобинах был только один релиз, а на кассетах я всегда стремился издаваться. Для меня не было никакого кассетного возрождения. Я еще издавал свои релизы промышленным способом — это не дубликатор и магнитная пленка. Было гигантское широченное магнитное полотно, записывается поканально, потом разрезается на маленькие ленточки и сматывается в кассетки. У «КДК Рекордс» делали, была такая фирма. Там записывали еще в 1990-х и 2000-х «Спайс Герлз» каких-нибудь. У промышленного метода проблема, там всегда ограничение по минимуму тиража — сначала было 200, потом 100 штук, а это стоило денег. Главная проблема потом — куда две трети из сотни девать.
— В моей кассетной коллекции больше всего твоих кассет, около 20. Сколько у тебя всего было кассет, больше 500?
— Меньше. В самые жирные годы, когда были деньги, стремление и желание что-то издавать, больше 5–6 в год я никогда не делал.
— Были какие-нибудь странные носители?
— Самый странный носитель был в поздние времена «Монопольки», когда мы с Филом бредили, честно говоря. Тогда мы продавали семена кассеты, то есть тебе присылается семечка в пакетике и инструкция по выращиванию. Проблема в том, что никто не читал инструкцию, поэтому у всех вырастала морковь. Еще был релиз — по-моему, это был альбом «Монопольки», — он представлял собой маленький пузырек перекиси водорода. Надо было перестать мыть уши, потом закапать туда перекись водорода, которая начинала там взаимодействовать и шуршать. По-моему, до выращивания кассет никто не додумался. К сожалению, никто не соблюдал правила проращивания. А вот если бы соблюдали, то получили бы *** [невероятный] раритет. Честное пионерское. Смотришь в мои честные голубые глаза и веришь ведь?
— Культура зинов, первые пробы пера — какие это были годы?
— Первые пробы пера у меня были просто потому, что я имел какое-то представление о полиграфии, верстке. И у меня был компьютер. У других участников не было и этого. Это был зин «Элефантбой». Я его оформлял, и очень плохо оформлял.
— Это совместная работа?
— Нет, я просто помогал Филу. Написать целиком фэнзин сложно, нельзя заниматься только одним этим. И когда он мне предложил что-то написать, тогда я тоже начал писать рецензии и что-то еще. Я больше помогал ему мыслить. Меня вообще поражает наше с Филом общение — это несколько лет мозгового штурма, совместный бред у нас получался великолепно. Часто всё это был чистой воды бред, который никуда не выплеснулся. Я рад, что помогал Филу делать великолепные зины.
— А твои авторские, с рисунками?
— Это гораздо позднее. Я какие-то делал маленькие фэнзинчики, многих уже и не вспомню. Выкидываю куда-то в пространство — слава богу, проехали. А так это просто делается — сложил пополам лист А4...
— Необходимость просто выплеснуть, получить овации было не нужно?
— Обратная связь интересна, но хранить, а потом водить экскурсии — ***-то [половой член] у меня стоял! А вот дедушка-то был ого-го! Я никогда не выспрашивал ни у кого, понравилось ли? Это ощущение как на сцене Большого театра: ты стоишь в круге света, а перед тобой тьма, в которую ты что-то кидаешь. Там могут быть метапсихологические вещи, потому что ты никого не видишь, ты видишь только темную стену, которая, может быть, дышит. Ты можешь только на каком-то энергетическом уровне получить отклик. Очень часто выступаешь в клубе, тебе по шарам бьет прожектор, ты не знаешь, облажался ли: играешь херню, звук — дерьмо. Потом неожиданно выходишь из этого света, а там народ колбасится в жутком экстазе. Ого! И понимаешь, что эхом от противоположной стенки звучит совершенно не то, что в зале из колонок.
— Расскажи истории про Петроградскую сторону, свой район.
— В 1989 году я сюда приехал из «ФРГ», когда моя семья разменяла квартиру. Горжусь до сих пор, что я уроженец «Фешенебельного района Гражданки» — окрест Площади Мужества. Я жил на девятом этаже Пентагона, если этот топоним кому-то что-то говорит. Мне там нравилось, я сюда не хотел, но приехал. Это, конечно, совершенно иной мир, потому что одно дело жить с видом на улицу Карбышева, другое дело — приехать в район, где дома построены тогдашним жульем во время строительного бума между двумя революциями.
Я живу недалеко от квартиры Елизаровых, откуда Ленин, замотав тряпицей челюсть, сев на трамвай за гривенник, приехал в Смольный и объявил о победе революции. Я помню тот самый маршрут, который шел отсюда в Смольный. Это тот самый номер — конечно, другие рельсы и трамваи, но номер и маршрут тот же. Тут совершенная иная ситуация, ты попадаешь в историю города. Мурино — другая история, другой бэкграунд. Кроме того, наш район специфический: он был очень тихий и пустой, жили тут пенсионеры, алкоголики и сумасшедшие. Я общался с этими дедушками, которые несли околесицу, потому что были пьяными или сумасшедшими. Не зря Петроградский психоневрологический диспансер один из лучших в городе и в России — у него была гигантская практика. Я в какой-то момент перестал ходить на политические митинги, потому что встречал там местных сумасшедших. Они тут то же самое говорили, что и с трибуны на митинге — неважно, какие флаги и за что выступали. У сумасшедших дефицит общения, они с удовольствием туда ходят, поэтому всё превращается в «Дорогая передача! Во субботу, чуть не плача, вся Канатчикова дача к телевизору рвалась». Я общался с этими дедушками, которые рассказывали о своих проблемах, философии и житейских воззрениях, потому что мне не проблема послушать, если ко мне кто-то обращается — взгляд с другой стороны особенно интересен. Они интересные монологисты, не считая некоторых. Это повлияло на меня. Потом всё стало меняться, хипстеризуется Петроградская сторона: появились бары, где сидят люди с модными прическами и красиво подстриженными бородами.
— Ты сам лежал в психушке в свое время. Повлияло ли это на твою жизнь?
— Лежал два раза. Конечно, повлияло в лучшую сторону. С одной стороны, тяжелый опыт, с другой, казарменный, даже тюремный подход очень помогает. Например, у меня патологическая бессонница, но после того, как я полежал в Бехтерева, где хочешь не хочешь, но уснешь вовремя, и это приказ, у меня несколько лет держался правильный режим бодрствования. Только спустя семь лет он окончательно разрушился. За это я очень благодарен бехтеревке. Психушка — это в понимании многих карательная советская медицина, лоботомия, электро-судорожная терапия. В некоторых случаях электрошок очень полезен — не когда мальчик любит мальчика, а когда он реально нужен.
Легенд много рассказывают те, кто там никогда не был. Еще есть идиотская ситуация, когда родители своих детей-наркоманов насильно запихивали в психушку — им там нечего делать, им надо идти к наркологу, не к психиатру. Это интересный опыт общения с людьми. У меня в палате с одной стороны лежал бандит, его туда поместили с пулевым ранением, просто чтобы спрятать, а с другой стороны лежал мент, который свихнулся в 1990-е. Они подчеркнуто не общались, потому что нельзя лежать в палате, где долго идет срач — они это прекрасно понимали. Но послушать их рассуждения было интересно. Мент, например, рассуждал, как прав был Гитлер, истребляя психов — это говорил человек, который сам в психушке находится. Это интересное общение с множеством разных людей. Многие туда приходили добровольно, кого-то клали по суду, у кого-то свои проблемы. Дело даже не в том, что у них ехала крыша — многие из них были весьма здравомыслящие и разумные. Другой взгляд на жизнь. Конечно, я видел абсолютные патологии, но с ними общаться страшно — тело есть, двигается, а человека уже нет, мозгов нет, ничего нет. Были и неприятные персонажи, которые крысячили по тумбочкам. И ведь не только психиатры наблюдают пациентов, но и пациенты психиатров. Тоже интересно смотреть на то, как они мыслят, как они это воспринимают.
— Есть прямая связь между невыносимым потоком сознания мычащих людей вокруг тебя и абстрактной агрессивной шумовой стенкой?
— Не было всё так мрачно. Напротив, там было гораздо позитивнее, чем во многом в жизни. Не было там какого-то ужаса. Все прекрасно понимали, что мы сидим на подводной лодке и не надо портить жизнь. Общение там очень вежливое и весьма деликатное.
— Ты получаешь пособие?
— Да, у меня вторая группа инвалидности. Конечно, это связано. Это некий способ социализации. То, что у меня сейчас человеческая пластика, мимика... Я был деревянный, зажатый, лицо у меня было абсолютной маской. Сейчас я разговариваю и мысли формулирую довольно складно. Это работа над собой, потому что после того, как ты на сцене бегал голышом, чего уже стесняться-то? После того, как ты бросил стул в зал и в кого-то попал, сбросил стол на голову человеку, уже нечего стесняться. Это очень раскрепощает, во многом это была арт-терапия для меня.
В какой-то момент я стал пробовать, насколько далеко я могу зайти. Я не Ямацука Ай, не Марина Абрамович, у которых нет предела, мне интересно, что лично я могу из той точки, где я нахожусь. В какой-то момент я решил это прекратить, потому что это стало самоцелью. Я всегда держал в голове, что люди не обязаны присутствовать при том, что я занимаюсь арт-терапией, которая художественной ценности не несет. Я всегда понимал, что есть искусство, антиискусство, контрискусство — *** [к черту] это всё. Есть некая художественная задача, должно быть некое творчество. Если это не творчество, а попытка преодолеть самого себя, то этим лучше заниматься одному под кроватью ночью. Я понимаю, что нарциссизм, самолюбование должны быть: если ты самодостаточен, то что тебе делать на сцене? Зачем ты пришел? Меня всегда интересовало шоу. Если мы хотим читать, то пойдем в библиотеку; если мы хотим послушать, то скачаем альбом. Надо делать некое действо. Это не обязательно театр или цирк, но это должно быть интересное шоу.
В какой-то момент я об этом много думал: четвертая стена, разрушение четвертой стены, Мейерхольд, Брехт, Станиславский, прости господи. Этим меня всегда привлекал Ай: он хотя бы пытается сделать так, чтобы между сценой и залом не было разницы. Отсюда все эти оранья в микрофон и прыганья со сцены.
Можно наоборот: игра распространяется в зал, и теперь они все участники — бармен, охранники, которые бьют малолеток, админ, который портит тебе жизнь, звукач. Это расширение пространства. Мы этого добились на нашем концерте, когда высыпали перед зрителями чемодан с детскими свистелками, перделками, резиновыми уточками. Они уже это хватали и начинали тарахтеть. У меня была мысль через 10–20 минут: зачем мы с Филом тут нужны? Мы теперь там всё портили.
Из этого ощущения вырос тот хлам, который я проводил пару лет назад, когда были все эти самодельные дудки. Я кинул клич, что есть заброшка на Костюшко, приходите, пир горой, играем, дудим в свое удовольствие. Было три сессии на Костюшко, а потом я просто переставал играть, всем показывал большой палец — молодцы, а сам превращался в зрителя. Мне этого хватало. В этом успех «Рускомплекта» — там не было границы. Не было вещания с кафедры в потоке света — это всё херня, я ничем не лучше всех остальных. Другое дело, что людям нужен триггер, что и показал «Рускомплект». Если человеку сказать, что можно выплеснуть всё, что в тебе есть, то первым делом польется гной, который скопился. Поэтому у «Рускомплекта» была слава нехорошая.
— Когда мы с тобой познакомились, лет семь назад, ты был толще на 1000 килограмм. Не мог бы ты поделиться с нашими читателями рецептом похудения?
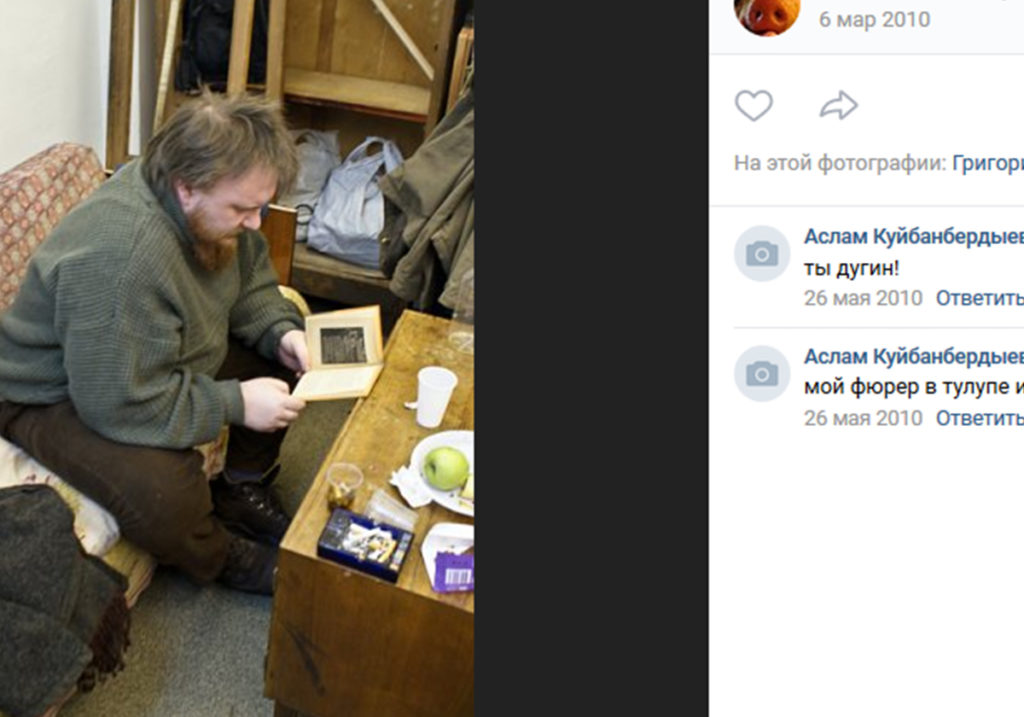
— Это мало кому поможет, потому что я 10 лет жрал таблетки из первого списка, которые влияют на обмен веществ. Еще и депрессия. В итоге я разожрался больше чем до 130 килограмм, тогда у меня возникли проблемы с сердцем, сосудами, костями на ногах. Рецепт простой: я перестал есть таблетки, просто резко оборвал, чего делать нельзя, и начал есть столько, сколько надо сейчас, и не более. Проблема в том, что я не всегда ощущаю, сыт я или голоден.
Надо еще ходить, гулять. Я всегда много гулял по ночам из-за бессонницы, город ночью очень интересный, очень много можно заметить, чего в суете не заметишь. Поэтому многие, кто со мной гулял, обращали внимание, что я останавливаюсь в каких-то водостоках, замечаю граффити, захожу в такие подворотни, которые выводят хрен знает куда. Я улицы района знаю, но всегда можно найти что-то новое, если куда-то свернуть. Можно увидеть сценку, как две тетки за 60 лет тащат в полном сборе унитаз с бачком в подворотню, держа его как ребенка за ручки. Сидишь ночью на берегу реки, вдруг видишь, а там по пляжу бегут белые тени — оказывается, мальчик с девочкой голышом развлекаются, а тебя не видят. Когда я смог дышать без одышки, я снова начал гулять. Прогулки, мало еды. Жрать надо меньше, соответственно своей работе. Я сижу на одном месте, поэтому не надо жрать, как шахтер.
— Есть диета по Артемию Лебедеву. Он предлагает есть любые продукты, какие хочешь, но откусывать только небольшой кусок, а остальное выкидывать.
— «Не зъим, так понадкусываю». Это производство излишних помоев. Я не сторонник идейных экологов, но гадить зачем? Я понимаю мою бабушку, которая застала голод 1920-х годов и просто не могла выкинуть еду. Старшие родственники выросли во время тотального дефицита. Я понимаю людей, которые тащат килограммами сейчас, но у нас не предвидится голода. Конечно, если у нас будет что-то такое, как было в 1991–1992-м, то закупаться надо спичками, солью, патронами. Но сейчас, если тебе нужна одна картофелина, не надо покупать килограмм.
— У вас два раза была поездка в шар в Дубне. Можешь рассказать, как это выглядело?
— Про шар я давно уже знал. Я всегда интересовался шибзданутым краеведением, и, конечно, у меня это ограничивалось Ленинградской областью и Питером. Но тут... я слежу за деятельностью «Железобетон Рекордс», потому что у меня с Артемом хорошие отношения, мне он нравится. Он там издавал CDR, московская группа Cyclotimia давала концерт в шаре давно. Я понял, что это какие-то странные места, и странные электронщики туда едут почему-то. Что за шар? Стал рыть, нашел на «Википедии». Как оказалось, всё там написанное было неправдой.
В наш второй приезд местные жители на квадроциклах приехали посмотреть, что это там шумит, потому что шар этот — идеальный резонатор. Тогда они приехали и рассказали нам всю правду. Никакой вертолет его не ронял, это фальшивая цель для американских спутников, потому что там рядом полигон. Эти шары — кожухи для всенаправленных радаров, просто их надо чем-то прикрыть от дождей и пыли. Они из такого гофротекстолита сделаны, из похожего материала делают микросхемы, но тут он еще и гофрированный, поэтому шар очень тонкий и легкий. Поэтому он и разрушается, к сожалению — в течение 10 лет он окончательно разрушится. Шар поставлен на виду, на бетонной подставке. В какой-то момент, когда дудки наши раскочегарились, квартет сложился, я решил, что хватит по одному Петербургу шариться, надо ехать в идеальное место. Хельга, наша участница, сказала, что в Грузино, где у нее дача, есть такие же шары.
Дальше начинается сказка. Мы решили поехать и посмотреть на них. Приехали и нашли основание для шара, а шара нет. Из малинника выходит дедушка и говорит, что шар украли. После этого он опять исчезает. Я не проверил, не было ли у него заячьего хвоста и не капала ли с него вода. Мы пошли искать другие шары — оказалось, что эти шары тоже были фальшивкой. Там был полигон для обучения секретных радистов, чтобы наблюдать за космосом и американцами. Остальные шары нам были недоступны, потому что на полигон нас не пустили, там был секретный объект — бабушка-вахтерша сказала, мол, в нас стрелять будут. Мы туда не полезли, пришлось ехать в Дубну.
В первую поездку мы не понимали, куда едем. Маршрут нашли, приметы нашли. Мы сели в Газель Смерти Дениса Алексеева и поехали по известной трассе. Не доезжая до Москвы свернули и через чудесные колхозные коровники доехали до деревни Ларцево, а потом совершили катастрофическую ошибку.
Ларцево находится на горе, дорога к шару ведет под гору, мы с горы съехали, и газель села днищем в болоте. Следующие шесть часов нас вытаскивал тракторист на маленьком тракторе из соседней деревни за какую-то смешную сумму в 1000 рублей, хотя это стоило намного дороже, но он нас не бросил, хотя мы порвали ему трос. Толкали шесть часов с этим трактором «газель» обратно в гору из дерьма. Почвы там хорошие, жирные. В результате ночью мы в дерьме, слушали полифонический орган в исполнении комаров — меня это поразило. Сотни комаров в едином строе. На утро я был болен, у меня была температура, Денис спал в своей засранной одежде. Мы сломали мосты в этой поездке, вытягивая за них машину. На следующий день, когда все пошли записываться в шар, я не пошел, лежал в поле на солнце с температурой. Про встречу Дениса Алексеева с выдрой в пожарном пруду я рассказывать не буду.
В первый приезд без меня там записали удивительный материал. Упражнение по вытаскиванию газели из грязи на свежем воздухе оказало влияние — это полностью изничтожило любой творческий дух. Получился странный и осторожный эмбиент. Записала его очень хорошо Наташа Силкина, хотя эта акустика сложная, там все сливается в муть, если писать на один микрофон, а не стерео — еще сложнее. Ты говоришь, и такое ощущение, что звучит откуда-то в пяти метрах над тобой. То есть ты слышишь не то, что у тебя из уст, а чей-то другой голос. Если человек стоит в полутора метрах от тебя, ты не можешь разобрать его речи, его голос звучит у тебя из-за спины. Это сфера Гельмгольца.
Про то, как мы с Наташей чуть было не опоздали на поезд и нас спас мужик на копейке, я тоже рассказывать не буду. Поездка была наполнена впечатлениями, как позитивными, так и ужасными. Это сейчас мне приятно вспоминать, а тогда была катастрофа. Гештальт не был закрыт, мы не победили, поэтому мы поехали снова через год. Мы снова договорились с Денисом, который почему-то согласился, несмотря на то, что в прошлый раз мы угробили ему машину.
— Это классический Денис.
— В этот раз газель у него уже была сломана: из восьми цилиндров работали четыре, машина заводилась не всегда, глохла при переключении передач. Поэтому мы ехали очень медленно, что здорово, потому что мы побывали в волшебном городе Конаково, который мне безумно понравился. Подмосковная великолепная природа.
— Под Тверью?
— Я не разбираюсь. Там это всё перетекает. Чистый, тихий город, чистый воздух, вода, хорошие люди. Хостел тоже был замечательный. В этот раз в Ларцево мы приехали в приличное время. Проблемой был только постоянный дождь, идти по дороге было невозможно. В этот раз газель мы оставили на горе и пошли пешком. Лес там очень красивый. Одна из примет, по которой надо идти к шару — висящий на пне черный ватник. Это тоже произвело впечатление.
Проблема в записи была в том, что там всё время лил дождь, всё время капало, некуда было поставить рекордер, потому что его заливало. Спасла нас бутылка бренди, купленная в «Ленте», производства Алтайской республики. В этот раз шумящий лес и капли, стучащие по шару, тоже создавали эхо. В результате мы там сошли с ума. Я шугался девочек, потому что они бросались бегать чуть ли не по стенам шара, боялся, что они через купол будут вниз головой бегать. Звучали мы сильно, все было в грязи, сыро, холодно. Для меня эта поездка важна даже не тем, что мы там записали много материала и он весь хороший.
— Он есть на кассетах?
— Еще нет. Мы не издали. То, что записали в первый раз, было частично издано на lathe cut Сережей Комаровым в Cyland records. Второй мы еще не издали. Я хочу издать по-хорошему, но нет ни денег, ни вариантов. Там два альбома получилось, часть огромного материала не записалась, потому что в помраченном сознании я иногда путал на рекордере кнопку «включить» и «выключить». У меня есть подозрение, что из-за моей глупости мы многое не записали. В результате мы до ночи там пробыли, обратно шли под луной по грязной дороге. На ближайшей бензоколонке я скинул со своего ботинка 2,5 килограмма грязи, эта большая куча грязи потом высохла и лежала там. Один раз я провалился по колено прямо на дороге. Всё это происходило в темноте — слава богу, были фонарики. На дороге не было видно ничего, отличить дорогу можно было по канавам, оставленным тракторами, что добавляет впечатлений.
После возвращения банальная лукойловская бензоколонка воспринималась как нечто странное и удивительное. Шар выглядел инопланетно, абсолютно чужеродно этой природе. Путешествие было очень интересным. Прошло два года, но я до сих пор вспоминаю. Я думал, что мы съездили, закрыли гештальт и больше не будем возвращаться туда, потому что это очень тяжело. И уже этой осенью зашли разговоры о том, что надо бы съездить, только выбрать сезон посуше.
