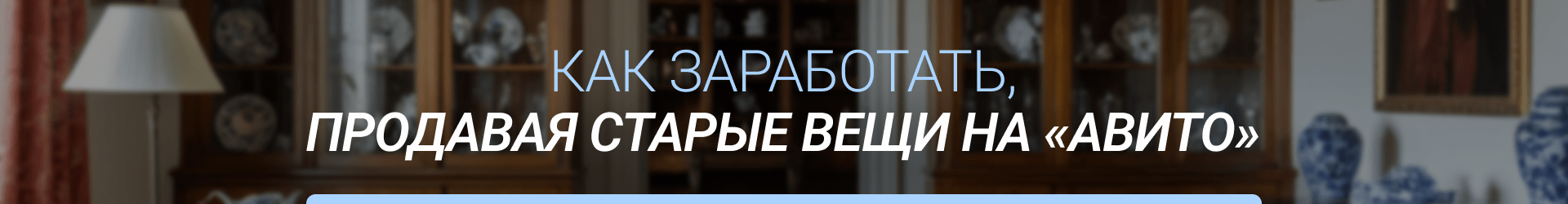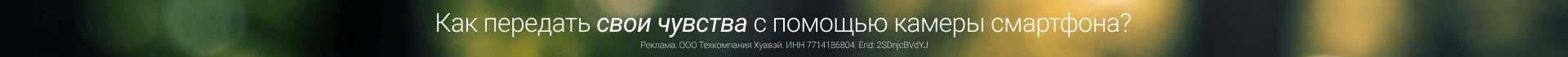Как я лежал в больнице для бомжей и психушке в Нью-Йорке
Для начала необходимо рассказать о причине моей госпитализации: я проглотил стекло. Приличный такой по размерам кусок. Не знаю, как это вышло, или просто не помню. Я даже не уверен, что проглотил именно стекло, а врачи не уверены, что оно вообще было, но об этом позже.
Сначала я почувствовал твердый предмет где-то за небным язычком, но в попытке подцепить его с помощью зубной щетки и шариковой ручки пропихнул куда-то дальше в горло.
Стекло засело совсем глубоко и не двигалось. С десяток раз за пару часов я вызывал рвоту, которая не приносила результата, а затем пропальпировал шею и нащупал стекло в трахее.
Я настолько ебанутый, что лежал в дурке…
Face

Становилось трудно дышать, появилась мысль обратиться за помощью, вытащить его и упасть спать. Я бросился к компьютеру — покупать страховку (больше всего было страшно за мой еврейский мешочек с золотом). Поняв, что не в состоянии оформить ее сегодняшним днем (страховщики не дураки), полез искать анатомические атласы. Нагуглил какой-то PDF с описанием маневра по извлечению инородных тел из дыхательного горла, лег животом на стул, свесил голову и, орошая тонкой струйкой крови пол на кухне, насколько хватало дыхания стал выводить «Аааааааа!» (чтобы разжать голосовые связки), давя на шею пальцами и медленно двигая стеклышко к выходу. Я думаю, что соседи, которые за несколько часов моих страстей привыкли к звукам долгого ночного проблева, удивленно вскинули брови, когда услышали, как кто-то за стеной начал распеваться.
Десять минут я миллиметр за миллиметром продвигал злосчастный кусок стекла в сторону рта, но в самый последний момент, не успев зацепить его пальцами, рефлекторно сглотнул. Стекло с болью и ощутимым сопротивлением ушло вниз по пищеводу…
Интуитивно я выбрал больницу Bellevue — это и самая старая действующая лечебница в США, и первый в городе морг, и особый контингент: 80 % пациентов не могут позволить себе даже самой простой страховки. Некоторым она вообще не положена — это нелегалы.
Кроме того, здесь лучшая в городе emergency room — именно в эту больницу был отправлен Тупак после покушения в 1994 году. Тогда трое неизвестных всадили в него пять пуль (две попали в голову, две в пах, а одна прошила руку насквозь и застряла в бедре). Рэпера прооперировали, и он, несмотря на попытки остановить его, сбежал из палаты через три часа.
Я вызвал такси, накинул грязную домашнюю кофту, всунул ноги в кроссовки и одним движением не глядя смел со стола в рюкзак все, что там лежало. В сумке оказались: пара трусов, успокоительные россыпью, шалфей, чтобы окуривать комнаты, кольцо для члена (подарок подружки), записные книжки и компьютер. Я планировал провести в госпитале остаток дня и уже вечером блаженно пить холодное пивко на крыше своего дома, с равнодушным видом рассказывая друзьям о невероятном приключении.
Я полностью потерял речь, поэтому в emergency room, куда полчаса добирался по пробкам, разговаривал как немой — через бумажки и заметки, которые набирал в телефоне.
Вообще американская система здравоохранения встретила меня прохладно: я буквально на коленях приполз к ним в домашней одежде, хрипел, потому что не мог дышать, сплевывал кровью и слюной в sandwich bag с зиплоком, пару раз отключался и обмякал, опускаясь на пол, а за этим флегматично наблюдали два мента да бабки в бесконечной очереди.
Когда я предпринял попытку заползти в ER, выбежали какие-то фельдшеры, прогоняя меня тряпками и крича «кыш-кыш». Сознание начинало схлопываться. Отполз обратно.
Оформился, пальцами показывал на горло и на оконное стекло.
Emergency room выглядела как большой спортзал, по всем четырем сторонам условно разделенный занавесками на палаты (всего он вмещал около 60 человек одновременно). Остров по центру — за стойками работают врачи. Меня положили около благочинного вида деда с сиделкой. Правда, он все время дрочил и раз в полчаса очень вонюче срал под себя, размазывая кал по занавескам. Потом, как кот, осторожно нюхал свои руки, удивленно мотал головой и продолжал дрочить в прострации.
Потом какой-то сухонький негр с перебитой ногой повернул голову в его сторону, всмотрелся и, вскрикнув, запричитал: «Ебать меня боком, да это же очень известный бейсбольный менеджер, как же жаль деда!» Потом у него зажужжал телефон, он перевел взгляд на экран и снова заорал: «ОХУЕТЬ, у меня мэтч, я же всю ночь теперь спать не буду!» Затем он выпил что-то и до конца дня напевал блюз. «Шизанутый», — подумал я.
После прикатили перепуганного мужика с кардиостимулятором — этот кокаина перенюхал с проституткой. Взрослый такой дядя в рубашке, но с проколотым соском. Врачи его, конечно, отругали, но негромко.
Большая черная женщина лет пятидесяти кричала на медсестру, которая была недовольна тем, что пациентка не принимала лекарства.
Женщина возражала: «БЛЯДЬ, КАКАЯ АПТЕКА, Я 17 ЛЕТ НЕ ВИДЕЛА АПТЕК, У НАС В ТЮРЬМЕ НЕТ АПТЕК», — и заливалась смехом.
Строптивая пациентка хохотала над дедом-дрочилой и подначивала его: «Давай, покажи, что ты еще сможешь, дедуля». Потом к ней пришел бойфренд, и она украдкой сжимала ему член, а он с любовью в глазах гладил свою пассию по лежащему подле нее животику.
Скрашивали унылый медицинский досуг и двое бесноватых. Бабка, время от времени выкрикивавшая: “WELCOME TO 9/11!”, — зловеще хихикала, как ведьма, сидя на каталке под неестественным углом в 90 градусов. Иногда слезала с нее и на цыпочках бегала по отделению. Кто-то за занавесками не выдержал ее воплей: “I don’t need no medications, I took my medications”, — и предложил шарахнуть ее током: “Somebody just do this witch a CPR”.
Потом менты привезли какого-то негра в тюремной одежде, которого обвязали цепями в специальном боксе за решеткой. Он в ярости раскидывал врачей, вырывался и сыпал адскими проклятиями. Ему вкололи что-то серьезное и надели на лицо маску. Зэк на минуту затих, а потом у него начались конвульсии и из-под маски пошла рвота.
Суровое побоище с ним возобновилось еще через пару часов. Летали шприцы, бинты и салфетки, и его снова пришлось чем-то уколоть.
Когда он проснулся, то первым делом, увидев другого афроамериканца (санитара), спросил у него: «Ну че, куда едем?» Тот ответил: «В Синг-Синг». У буйного заключенного появилась блаженная улыбка на лице: «Ааааа, так тебе тоже туда!» — и он удовлетворенно откинул голову на подушку.
Меня дважды катали на рентген и засовывали в нос щупы. Обнаружили воздух в полости тела, потому что у меня разорван пищевод. К вечеру отвезли в палату. Все время приходили студенты (это еще и учебный госпиталь Нью-Йоркского университета).
Почему-то все улыбались и переглядывались, изучая мой анамнез.
Я не ем первые несколько дней, сижу на капельницах. Давление и температуру приходят измерять каждые три часа. Мочу и кровь берут раз в день.
Условия — как в отеле. В ящике зубная щетка, паста, дезодорант и шампунь. Телефон С ПЕРЕВОДЧИКОМ, как в Кремле. Телевизор, свежая одноразовая пижама с носочками.
А какой вид из окна: над окружающими постройками высится Empire State Building, и блестят на солнце тысячи окон центрального Манхэттена! К вечеру картинка превратилась в завораживающий задник к Saturday Night Live — да даже не в каждом пятизвездочном отеле есть такой вид.

Рядом лежит дед, поначалу казавшийся адекватным. Только жалуется на то, что у него ногти вросли и он уже давно не чувствует ног. Дед бездомный.
Забавно, что больницы для бомжей в Нью-Йорке примерно такие, как московские для випов. Сервис — на уровне хорошего санатория в Европе, точно не хуже. Мне даже трудно представить, в каком великолепии утопают пациенты более престижного госпиталя, типа Mount Sinai.
Персонал очень вежлив: извиняются, благодарят (я уже стал подозревать, что у меня смертельный диагноз, а мне о нем не рассказали). Берут кровь — «спасибо-спасибо», тянешь руку измерить давление — «спасибо-спасибо»… Капельницу переставить — «простите-пожалуйста». Журналы? Газеток утренних? Свет вам оставить или выключить? Хотите, белье на свежее поменяем? На шестом этаже салон красоты, не желаете побриться? Вайфай, прачечная, даже магазин с сувенирами. И это больница, куда стремятся попасть бездомные: полежать там, отожраться, телек посмотреть — ну как мой сосед по палате.
Идут дни — ко мне заходят еще и психиатры. Практикантки-азиаточки из NYU. Я ножки под себя убираю, головку набок складываю, тихим голосом жалуюсь, что не помню, как стекло сожрал, и вообще дайте мне побольше занакса и отправляйте уже домой.
Ну в общем, одним глазом слезу пускаю, а вторым на их ноги пялюсь в туфлях на шпильках. Надеялся, что потом вспомню про них ночью, но мне какие-то мощные транки дают — либидо на нуле.
На следующий день разговоры были уже посерьезнее, взяли телефоны родителей, друзей.
Оказалось, что я свои антидепрессанты и бензики могу у них бесплатно брать, но при условии, что наблюдаться буду на их же кафедре.
Да за такой хавчик (меня уже начали кормить) и обслуживание я готов у них в клинике все время жить. Выйду потом здоровым, как пельмень. Кормят, действительно, очень хорошо: французские тосты, блинчики, омлет с сыром на завтрак. На обед и ужин — роскошные митлоуфы, джерк-чикен, треска на пару… К каждой порции идут хлеб и спред для него, молоко, кофе и десерт. Почему-то никогда не дают соли, но сахара аж по четыре пакетика. Круто, что еда не воняет столовкой и меню разнообразное: блюда могут не повторяться несколько недель.
Субботнее утро началось рано. Часа в три ночи дед мочился на себя, отгоняя ногами медбрата. Я покрепче вжался в подушку, потому что за ночь в меня влили еще литр физраствора и, пока мой мочевой пузырь этого не осознал, нужно было возвращаться ко сну. Иначе пришлось бы мне топать до туалета со всеми своими трубками и капельницами через no man’s land — залитый мочой и дезраствором, закиданный тряпками сектор ночных боевых действий деда с персоналом больницы.
Чуть позже утром (в шесть), переменив тактику на партизанскую, мой пожилой сосед сходил под себя. Обгадился, прямо с открытыми глазами и с Библией в руках. Весь день строил вид, что этого не делал: «Я? Что? Нет, конечно». Ага, подкинули ему.
Теперь у нас в палате дежурил почетный караул, как у Мавзолея. Врачей не было, очень хотелось домой, где погибали цветы и ждала 6-pack холодного мексиканского пива в холодильнике. А еще там крыша с видом на перекресток в Чайна-тауне.
И тут шокирующая новость: оказывается, охрана была приставлена не к деду, а ко мне.
Пока охранник задремал, я пролистал его бумаги: про меня пишут, что я «суицидальный» и «склонный к побегу» (так я выучил слово elopement, которым обычно называют влюбленных, сбежавших от своей родни, чтобы пожениться).
Решил подружиться со своим надзирателем. Джастин — рослый негр со скучающим лицом. Ему 30 лет, и он совершенно случайно оказался санитаром в психушке. Вообще он любит фотографировать, но пока что вынужден зарабатывать деньги здесь. Его задача — записывать каждое мое движение: «проснулся», «за компьютером», «сидит в кровати и смотрит в стену», «самостоятельно отключил себя от капельницы» и т. д. Последнее, кстати, я освоил мастерски — даже, наверное, и поставить капельницу смогу при необходимости. До понедельника, говорит, меня точно не отпустят: нет врачей. Я с этим категорически не согласен — мне доктора еще в пятницу сказали, что я cleared to go.
Звонил в российское консульство — ответили, что до понедельника ничего решить не смогут. В израильском трубку не сняли: шаббат.
Джастин наблюдает за мной, а я за ним: вот он купил травку у уборщика, вот ломает вендинговый автомат, вот украдкой палит каких-то баб в инстаграме.
В воскресенье заказал еды из «Теремка». Джастин в ужасе от кваса, но к пельменям и блинам отнесся с пониманием. Завтра важный день: лечебная комиссия будет принимать решение о моем переводе в психиатрическое отделение. Джастин говорит, что там очень плохо — отнимут компьютер и телефон и лишат меня свободного посещения.
Смирительные рубашки больше не используют, но могут привязать к койке или загнать в карцер. Рассказал своему надсмотрщику про даркнет — сидит немного шокированный, думал, что это выдумки телевизионщиков.
Попробовали вместе пробиться к порнухе через местный файерволл — не вышло. Я показал ему рэпера Фейса, а он тайком рассказал мне, как стоит вести себя перед комиссией.
Через пять дней мне 28. Надеюсь на снисхождение и амнистию (забегая вперед, скажу, что «праздник детства» я провел в психушке).
Пришла бумага о выписке. Со счастливым визгом одеваюсь. Собираю вещи и вылетаю из палаты. Меня уже караулят медсестры: «Ты не можешь никуда идти, надо дождаться докторов». Пытаюсь бежать к лифтам.
По этажу разносится: “Crisis management team, crisis management team!” — появляются менты и еще человек пятнадцать персонала. Сражаюсь с ними как лев, но сдаюсь, будучи зажатым в угол.
Один из психиатров сыграл в доброго полицейского и доверительным тоном объяснил мне, что на этаже выше меня ждут увлекательные активити, караоке-вечеринки и музыкальные классы — настолько увлекательные, что даже он, будь у него время, с удовольствием бы их посещал.
Меня усаживают в каталку, и я со свитой из врачей и полиции отправляюсь этапом на 18-й этаж — в психиатрическое отделение. Громыхают замки, засовы, меня провозят мимо нескольких вахтеров (они были даже в лифтах) и закатывают в Ward 18 West.

Несколько психов, медленно волочивших ноги, как зомби у Джорджа Ромеро, замерли и уперлись в меня мутным взглядом. Один из них подошел совсем близко и попросил отдать ему мои кроссовки.
Тогда я понял, что попал. Врач предложил мне «отдохнуть в лаундже, пока меня оформляют», на что я шепотом ответил: “Man, I’m scared as fuck, please sedate me somehow”. Мне выдают красивую бирюзовую таблетку, и через 20 минут становится легче.
Затем произошло то, чего я боялся: санитары принялись потрошить мой рюкзак. Отобрали ноутбук, телефон (за полчаса до этого я в параноидальном припадке поудалял мессенджеры и запаролил всё отпечатком пальца). Под опись изъяли зарядки и наушники. Не разрешили оставить записные книжки (из-за металлической проволоки, скрепляющей страницы) и авторучки (видимо, чтобы не сделал ими сэппуку). Бритвы отняли тоже (да и зачем они нужны там, где вместо зеркала висит зацарапанный и изогнутый лист металла, в котором все равно ничего не отражается). Было немного неловко объяснять, что такое cock ring и как его использовать (тем более что я и сам не знал — просто показал жестом, что к чему), но самое страшное произошло под конец. По чудесной случайности я первым углядел в рюкзаке предмет, который точно удлинил бы срок моего пребывания в отделении. Я мигом закрыл внутренний кармашек сумки и с энтузиазмом подписал бланк с перечнем изъятого имущества.
Меня нарядили в робу, отобрали обувь (могли бы вернуть ее уже без шнурков, но требовалось одобрение лечащего врача, а это 2–3 дня ожидания — такая вот бюрократия) и отвели к койке, которая представляла собой жесткие пластиковые нары с кольцами, куда продеваются ремни для связывания.
Мой лечащий врач, очаровательная индианка с красивым именем Никита, смотрит на меня своими огромными черными глазами и спокойно сообщает, что никакого стекла они не нашли. Не нашли вообще ничего. Я просто разорвал себе горло зубной щеткой. Острый психоз — будем пить нейролептики.
Я спорю, но выглядит это так, будто я вру.
В целом в психушке ужасно скучно. Я подростком боялся попасть в армию или в тюрьму, но совсем не ожидал оказаться в столь специфичном американском лечебном заведении. Как и на зоне, в психиатрическом отделении скука и безделье сводят здорового человека с ума. Раз в неделю пациентов на час выводят на прогулку по крыше больницы — как в кино. Вообще весь экспириенс можно назвать чрезвычайно деморализующим: поначалу тебе тупо страшно, а потом просто наступает отчаяние и отчуждение. Я не мог заставить себя ходить на групповые занятия (а меня уверяли, что они ускорят мое выздоровление и повлияют на вердикт докторов). Я не знал, как скоро меня выпустят (“You have to cooperate and prove to us that you can take care of yourself”), поэтому даже успел подать на врачей исковое заявление в суд. Правда, на следующий день передумал и отозвал его. Снова звонил в российское консульство.
Пришла девушка и сказала, что им проще вытащить человека из тюрьмы, чем из психушки, — нужно подключать платных юристов.
Друзья тоже задействовали все свои связи (Ханна, Кристен, Саша и Никита, огромное вам спасибо и привет!), но надежды не оправдались.
Время шло невероятно медленно, я старался спать до момента, пока не потащат на завтрак, а так как поступил я довольно обессиленным, меня посадили на высококалорийную диету и внимательно следили, чтобы я доедал и не делился едой с соседями по столу (в итоге набрал 5 кило).
После завтрака я ложился на живот в коридоре (потому что, во избежание любых ЧП, в отделении нет мебели — только голые стены и плоские нары) и, растягивая удовольствие, читал The Hunger Games и нашумевшие когда-то Confessions of an Economic Hit Man (это примерно как фильм «Дух времени», очень подходящее чтиво для психбольницы). Вообще я единственный там читал книги, чем вызывал удивление как у больных, так и у персонала.
Иногда, чтобы убить время (и не выделяться), я ходил по коридору взад-вперед. От моей палаты до поста медсестер за бронированным стеклом и обратно ровно 100 секунд хода, почти 2 минуты. Пройдешься так раз сорок — вот еще один час убит.
Что поразительно, почти все больные с пониманием относятся друг к другу. Геев и женщин никто не задевает. Стариков или растерянных иностранцев типа меня — тоже.
Там был белый 45-летний мужик с посттравматическим синдромом (Ирак, Афганистан) и бог весть еще какими болячками, его часто привязывали ремнями к койке. Он нередко кричал черным: “What’s up my negro?!” (а «негр» в английском будет пожестче «ниггера») — либо обращался к ним: “Hey, DMX” или “Yo, G-Unit”. Но в ответ вместо угрозы проснуться с заточкой в шее он получал дозу добродушного хохота и пару незлых расистских шуток.
Кстати, мужик этот был самый классный, совершенно киношный: красные глаза, бурящий тебя взгляд сексуального маньяка, трясущиеся кисти рук и постоянные разговоры о бабах.
Ух, в каких же подробностях он рассказывал мне, как бы он трахнул мою «жену» (меня пару раз навещала знакомая, а он прижимался к окошку комнаты свиданий и, истекая слюной, ритмично тер свой пах).
Он вообще любил со мной поболтать — говорит, у него первый лейтенант тоже был русским.

Однажды кто-то безуспешно пытался разыскать своего родственника, набирая номер городского телефона-автомата в коридоре.
Этот маньяк каждый раз успевал ответить до второго звонка, хрипящим голосом рычал: “The devil is dead, I repeat, the devil is dead!” — и клал трубку обратно на рычаг.
Еще он любил от скуки устраивать фуд-файты во время обеда. Надо мной раз в пару дней пролетали апельсины, яйца и пакеты с молоком, а я улыбался как дурачок под своими таблеточками: мне казалось, что я попал в фильм «Голый пистолет», — и как-то даже прикольно было.
Ну так вот, больные вообще почти не конфликтуют между собой (хотя порой и случается). Большинство из них из-за болезни или просто от скуки соревнуются, кто громче пустит газы (желательно вечером, когда все, без особого комфорта расположившись на пластиковой мебели, смотрят реалити-шоу в комнате с телевизором). Один дед, похожий на спившегося Моргана Фримена, нечесаный и с пятисантиметровыми ногтями на ногах (как у росомахи), умудрился пропердеть всю 40-секундную рекламу куриных пальчиков от TGI Fridays (а это был любимый ролик нашего отделения, смотрели его просто не дыша). Плакала вся маршрутка. Ну, в смысле деду аплодировали все.
Однажды я поставил в ряд три кресла и развалился на них перед телевизором. Так же поступила толстая негритянка с розовыми волосами и полуторалитровым тумблером, который всегда был при ней (в психушке она пила воду, но обычно в такие здоровые переносные контейнеры наливают сладкую газировку из фастфуда). Она хорошенько, с оттяжечкой проперделась, повернула голову в мою сторону и сказала: “I’m sorry, it ain’t my ass, I can’t control that”. Я ответил: “It’s OK”, — но на самом деле подумал обратное и вообще оставался озадаченным до конца вечера.
В моей палате лежал бомж, который выглядел точно так же, как Канье, когда у того случился нервный срыв.
Так вот, этот Мелтдаун Канье разговаривал с утра до вечера. Сам с собой, точнее — с невидимыми людьми, обвинявшими его в чем-то. Он повторял: “I was set up, but I came back”, — и тыкал пальцем в пустоту. Кто его подставил и куда он вернулся, я так и не узнал, потому что сразу понял, что в психушке принято самостоятельно рассказывать о своем диагнозе, никто на тебя давить не станет. Днем я делился с Канье едой, а ночью хотел задушить его подушкой: бредить он не прекращал даже во сне. Только убойные дозы бенадрила с димедролом, теплым маревом накрывающие сознание, не давали случиться непоправимому.
В моем отделении проходили лечение и мужчины, и женщины (помимо негритянки с поющим влагалищем, были две метамфетаминовых бабы-яги), смешливый гей с педикюром и в резиновых тапочках Raf Simons и его противоположность — агрессивный гомосексуал c бритой головой в шрамах.
Встречались вообще почти все: старые, молодые, черные, белые, латиносы, азиаты и даже такая экзотика, как русский еврей (я). Я привлекал невероятное количество внимания, которого не желал, а один негр просто заколебал переспрашивать: “You’re from Kurdistan, right?”
Со мной лежали люди из соцжилья, шелтеров и много представителей среднего и выше-среднего классов. Полная солянка, почти точный демографический срез нью-йоркского населения (не было лишь совсем богатых, ультраортодоксов и русских с Брайтон-Бич).
И все странным образом уживались друг с другом. Немало этому способствовало действительно сочувственное отношение и очень корректное поведение врачей. Как бы сильно ни был болен пациент — никто не унижал его человеческого достоинства. Для лечащего персонала мы все были «сэрами» и «мистерами», а на любой вопрос больные всегда получали ответ. С кем-то из санитаров можно было шутить и болтать по душам. Они будто не замечали нашего разного статуса и состояния.
Трудно было найти двух похожих пациентов.
Агрессивный гей ограбил Papa John’s, а когда удирал на мопеде, упал, и ему оторвало часть пальца. Тот, что ходил в тапочках, упоролся метом и разнес номер в отеле. Большой инфантильный афроамериканец думал, что работает вахтером у себя в многоэтажке.
В отделении он «трудился» охранником. Старый негр мистер Браун после каждого приема пищи подходил к телефону-автомату и говорил в трубку теплые слова благодарности за еду. Мой друг с татухами на лице «сидел» уже в седьмой раз, потому что ему досаждают голоса в голове. Лечиться он приходит по своей воле, а выпускают его уже по решению комиссии докторов.
80-летний дед, похожий на Эйнштейна, как-то сказал мне за ужином: “You speak Russian? I know Russian… yeah… I’ve got a Russian girlfriend back in Brooklyn”. Я киваю: “Good for you”. Дед задумчиво ковыряет вилкой в тарелке и добавляет: “She’s a hooker, I talk to her on a payphone every day”.

Одному юноше скармливали около 30 таблеток в день (не вру). Закинувшись, он пел, танцевал в коридоре и, конечно же, пускал газы. Был 18-летний парень, который в ажитации рассказывал, что у него в доме есть соседи из Колумбии, Уругвая, Мексики, Эль-Сальвадора и Доминиканы — и все торгуют кокаином. Перед больницей он заглянул в гости к последним, сделал дорожку их стаффа и потерял сознание. Очнулся, решил попробовать еще раз. Пошла кровь — и он снова отключился. Потом была скорая.
Не со всеми у меня получилось найти общий язык.
Банда афроамериканцев, говорившая на просто хрестоматийном вернакуляре в смеси с тюремным арго, со мной общалась мало, но их главарь откуда-то знал пару фраз на русском, и ему было известно, что Пушкин тоже негр.
«Наше всё» сблизило нас, и мужик каждый день рассказывал мне истории о том, как он топтал зону, а еще посвящал меня в свои планы: «Родная сестра положила меня сюда — следовательно, она крыса. А знаешь, что делают с крысами? Их бьют бейсбольной битой». Я одобрительно кивал, потому что нет ничего более неприятного, чем быть лишенным свободы не по своей воле.
Это был странный опыт, который я так и не обработал до конца в своей голове. У меня появилась глубокая эмпатия к людям с расстройствами психики, и я невольно стал слегка SJW, зная об отношении к ним социума. Теперь я вижу, что это действительно насущная и запущенная проблема — стигматизация психических отклонений в российском обществе. Вынужден с горечью признать, что мне не хватит инерции и смелости заниматься ею.
Но я призываю других — попробуйте для начала принять очевидную истину: если у кого-то есть те или иные патологии (я намеренно избегаю выражения «страдает от»), это не лишает его естественных прав человека. Да и вообще нам стоит быть мягче и не навешивать ярлыки «псих», «шизик» или «душевнобольной» на всех подряд, если мы хотим считать себя «развитым обществом».