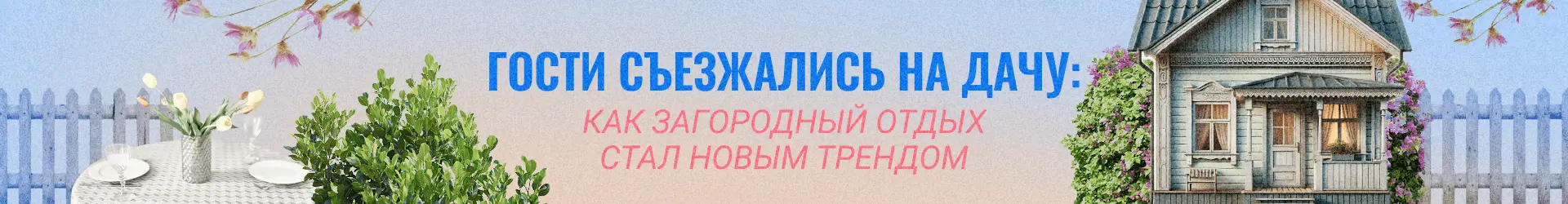«Рядом с нашими городами, метро и супермаркетами, существует другой мир. Там в ходу ржавое оружие, есть ангелы и черти, а земля говорит». Интервью с Михаилом Боковым, автором романа о черных копателях «Дед»
Михаил Боков, писатель и журналист, издал свой второй роман — «Дед». Главный герой, москвич-предводитель «черных копателей», ищет в лесах следы деда-фронтовика, а находит мертвые души. Откопав важный исторический артефакт, герои оказываются перед дилеммой: отдать находку в музей или продать на черном рынке — по сути, перед вечным выбором между духовными ценностями и куском хлеба с маслом. Как собирался материал для романа, на сколько могут сесть реальные черные копатели и почему русских людей тянет в леса и болота — рассказывает автор.
— Вы осуществили розовую мечту, пожалуй, каждого журналиста — написали большую книгу в твердой обложке. И даже вторую. Как ощущения?
— Ощущения двойственные. С одной стороны — это хорошая попытка плевка в вечность. С другой — война не выиграна, пока книгу не будет читать каждый второй в метро, пока ее не продадут тиражом в миллион экземпляров.
Писательство — неблагодарный труд. Миру с его клиповым мышлением нужны постоянные обновления, мерцания, а с книгой это не получается. Годами ты сидишь в своем подвале, складывая слова в предложения, в то время как мир вокруг искрится инстаграмами, виртуальными облаками и прочим.
Писать романы в XXI веке — это как палочкой набивать письмена на глиняных табличках, в то время как люди валят на ракетах осваивать космос.
— Как вы заставляли себя писать?
— Когда-нибудь я набью татуировку на голове: «дисциплина». Я родился в маленьком городке на окраине Мордовского заповедника и видел, что происходит с людьми без дисциплины. Их раскатывает, как масло. В 35 лет половины уже нет в живых, половина перебивается кое-как. Этот пример все время подстегивает, заставляет несколько раз в неделю вне зависимости от состояния садиться и стучать той палочкой по глиняной табличке. Благодаря этому стуку обретаешь надежду, что все не просто так.
— На обложке указано, что «Дед» — первый роман про черных копателей. Но мне показалось, что там вообще все несколько шире.
— Это роман про русского человека и русский лес. Человек ищет себя в ландшафте большой неизведанной Хтони. Своим текстом я пытался прорубиться в корневую литературу, в «Житие протопопа Аввакума», в фольклор, в Лескова, в Гоголя, если хотите — там сила слова. Главный герой видит леших, русалок, слышит, как разговаривает лес.
Когда ходишь с металлоискателем, будь готов, что возникнет эффект сродни наркотическому: реальность начнет меняться. Земля будто живая, она тебя путает, что-то подсказывает, а может и проучить. И когда ты эту землю копаешь, она в тебя, как та бездна, тоже заглядывает.
— Некоторые читатели назвали роман «русским магическим реализмом». Вы согласны?
— Мне нравится такая формулировка. В мире романа много настоящей жизни, но в нем есть место магии, волшебству.
— Один из героев, размышляя о том, что загнало его в поля, произносит такую фразу: «Все мы здесь, потому что мир отрезал нам яйца. Дал нам работу, дал баб и отнял войну». И что, у вас тоже, пользуясь словами вашего героя, хрен торчит, когда вы несете снаряд?
— Условно да: с условным снарядом условно торчит.
В современном мире мужчине сделали обрезание: его загнали в офисы, в ипотеки, в кабалу. Все стало слишком стерильно и цивилизованно: не хватает привкуса крови на губах, опасности, драки.
Кто-то, чтобы вернуть себе эту атмосферу боя, едет на настоящую войну, кто-то идет на ринг, а другие люди тащат ржавые снаряды в лесу…
— Как вы набирали материал для книги? Ходили с черными копателями?
— Я провел детство в Нижегородской области, и там вокруг — такая посконная русская землища: леса, мертвые деревни, старообрядческие скиты. Чаща вдруг может расступиться, и ты окажешься в окружении изб — черных, пустых, на стенах только портреты хозяев висят.
И, конечно, мы с детства пытались найти клад. Грезили монастырскими сокровищами, богатством, а земля посмеивалась, подкидывала нам всякую мелочь. Моей первой находкой, еще детской, была «полушка» — медная монетка XIX века достоинством в четверть копейки. Потом жизнь меня частично увела в сторону от поиска, а ребята, с которыми мы начинали, наоборот, с головой ушли в военный коп.
Одни сходили с ума от того, что выкопали: налаживали какой-то стремный бизнес по продаже военного железа, садились и выходили. Другие — часами сортировали кости бойцов, искали их родственников.
Собственно, роман об этом — как прошлое способно влиять на наше настоящее. Как в нем, в прошлом, мы вдруг обретаем себя. И потом мне хотелось показать, что рядом с нашим обществом, с нашими городами, метро и супермаркетами существует другой мир. В этом мире в ходу ржавое оружие, есть ангелы и черти, а земля говорит…
— И в ходу обращение «ребзя» — именно так герои различают своих.
— Да, «ребзя» — это слово всплыло из детства. Возможно из-за того, что я оказался за границей — полезло языковое подсознание. Хотелось того русского языка, как я его себе запомнил.
— Когда я читала роман, было странное ощущение: вроде бы технологии указывают, что действие происходит в наше время, но речь героев отсылает лет на двадцать назад. Вы не делали дополнительных вылазок в деревню, чтобы ухватить современную деревенскую лексику?
— Мне хватило вылазок в деревни: я сам жил в натуральной избе полтора года, и деревня была вокруг. А еще по молодости прошел такую вещь, как фольклорная практика: нас, студентов-филологов, сгоняли в стадо и отправляли в деревни слушать и записывать сказки, пословицы, все вот это.
— Кто вообще эти люди — черные копатели? Помимо того, что они ваши друзья.
— Люди очень разные. Есть офисные сотрудники, есть рабочие, есть бывшие военные. Одни вписываются в легальные поисковые отряды, ищут останки бойцов. Другие идут нелегально, для наживы — часто они даже на видео закрывают балаклавами лица, не хотят себя светить. Есть и местные деревенские парни. Ходят как гиды. Провести городских через болото, через чащу — такой заработок у них.
Ты покупаешь металлоискатель за 5 тысяч — и тебе открывается целая вселенная. Что принесет земля: кости? Оружие? Память? Неизвестно. Ты можешь стоять в лесу, а под тобой будут пластами лежать бойцы: шли наши в атаку и легли, затем фрицы — и легли сверху.
Эта близость истории, близость тайн бередит кровь.
— Герой вашего романа Андрей презирает тех, кто ходит с металлоискателями. А вы, я смотрю, все с ними. Ручками не пытались?
— В книге речь идет, в частности, и о группах, которые заезжают в лес с бульдозерами, с самым навороченным оборудованием — такие технари. Герои романа презирают таких людей за то, что они не уважают землю, не слушают ее, а просто грубо снимают культурные слои в целях наживы. Земля для технарей неживая: ее можно раздевать, насиловать, топтаться на ней. Эта потребительская позиция без чувства и души вызывает у героев желание бить технарей смертным боем.
— Вы сами чужую воинскую доблесть на папиросы и водку меняли?
— Я все же скорее бытописатель, чем участник жесткого копа. Но на моих глазах случалось всякое: есть темные ребята, и они меняли, да. Доблесть на деньги, на водку, на гашиш. Вот в Брянске на днях судили человека. Он пытался продать оружие, которое поднял из земли. Мне сначала сказали, что это кто-то из своих, знакомый, но позже выяснилось, что нет, просто дядя. Он те ружья только слегка почистил, а из них уже можно было стрелять. Земля такая: что-то превращает в труху, а что-то консервирует, бережет.
Но, на мой взгляд, серьезную находку, конечно, надо нести в музей. Есть куча местных краеведческих музеев. Они едва дышат, бюджетных денег им почти не перепадает, и они будут рады любой гильзе, любой ржавой винтовке.
— Под какие статьи могут попасть черные копатели? На сколько можно сесть?
— Самая главная статья, которую инкриминируют копателям-нелегалам, — 222 УК — о незаконном хранении и сбыте оружия. Можно влететь на восемь лет, если докажут предварительный сговор и факт наличия организованной группы.
Вторая, но с ней реже и сложнее — 243-я —«Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры». Надо признавать предмет памятником культуры и истории. Это долгая юридическая история, если только речь не идет о каком-то очевидном скифском кургане.
И, наконец, еще есть ФЗ № 245 — закон о запрете металлоискателей. Не вдаваясь в подробности, все, что достали из земли и имеет срок давности более ста лет, нужно передать государству. Если артефакт представляет культурную ценность, государство будет действовать жестко и организует посадку на срок до шести лет.
— Археологи порой, чтобы спасти места раскопок от черных копателей, подкидывают ложные артефакты, рассыпают дробь, чтобы затруднить работу металлоискателей. Что-нибудь знаете об этом?
— Я с этим сталкивался очень косвенно в Крыму. Большая часть нелегального копа «по древности» идет там.
Крым — это скифы, античность, генуэзцы, очень много всего. И там действительно археологи делают все возможное, чтобы спасти артефакты от разграбления: идет в ход и дробь, и черепица, и что угодно.
Я общался с археологами. По их мнению, мы ничего не узнаем о своей истории, если не будем сбивать черных копателей со следа. Достояние истории уйдет мимо науки по частным рукам и коллекциям.
Но я знаю и точку зрения копателей. Без них, как многие полагают, наука вообще не узнала бы о существовании массы исторических мест — курганов, остатков древних городищ. Именно копатели открывают эти места первыми, и знаете, что происходит потом? Приезжает бригада археологов, берет что-то по минимуму — сколько позволяет время и командировочные, а потом место закапывают снова. Все. Для его разработки нет денег. Его зарывают в надежде, что следующее поколение археологов будет жить в более совершенном обществе, что будет возможность заняться им основательно.
— Как вы относитесь к деятельности Юрия Дмитриева, который искал массовые захоронения жертв репрессий, и к тому, что его пытались посадить?
— Я, к греху своему, долго не знал про Юрия Дмитриева. А когда про него начали писать, удивился, что такой человек есть на свете. Я видел его фотографии, где он сидит и очищает кисточкой черепа, читал, как он ощущал лес, как заговаривал его, будто шаман. У меня сложилось впечатление, что он и герои моей книги очень близки. Что касается ареста, я склонен думать, что нашим провинциальным властям просто не нужны люди с подобной инициативой. Они ходят в лесу, что-то такое непонятное там делают — это власти пугает, и они таких людей «гасят».
— Или он мешал кому-то сплавлять артефакты на черный рынок?
— Тут только домыслы. Мне кажется, дело здесь в неприятии и, может быть, личных каких-то обидах. Я надеюсь, что у Юрия все будет хорошо.
— Один из персонажей романа — старообрядческий священник. Можете прокомментировать его фразу: «В полиции, где мы были, — дракон. В городе — дракон. И сердце дракона — в вавилонской вашей Москве»?
— Это типичный взгляд радикального старообрядца на устройство этого мира. В XVII веке случился церковный раскол. С тех пор радикалы, не принявшие церковных реформ и правки богослужебных книг, считают, что все в этом мире от дьявола: власть, официальное священство, само мироустройство. А центр дьявола, конечно, в столице, в Москве: все оттуда, она — сердцевина и червоточина. В книге я немного смягчил акценты, и получилось, что не «дьявол», но «дракон».
— По книге кажется, что вы по меньшей мере частично разделяете эту позицию.
— Мне нравятся бунтари, люди, которые противопоставляют себя системе. Когда делали правку церковных книг, часть людей была непреклонна. Это была их вера, вера их отцов, и они жестко не согласились с поправками.
И ради своей правды они готовы были идти до конца: снимались семьями и исчезали в лесах, совершали самосожжения, примыкали к восстаниям типа Пугачевщины. На мой взгляд, это очень сильная история. Она вся — о русском человеке. О том, какой силы духа он может достичь, несмотря на внешнее давление.
— И дед у вас в романе тоже был бунтарем. Сворачивал самокрутки из газетных листов с портретом Сталина. Его прототипом был ваш реальный предок?
— Скорее это собирательный образ, хотя оба моих деда прошли войну. В свое время меня впечатлила одна фотография. На ней русский солдат с усами и в пилотке прикуривает большую самокрутку, и лицо у него такое морщинистое, лукавое, с хорошей хитрецой. Вот и дед в романе — чубатый, мосластый солдатик, у которого глаз горит. Нужно было показать неуживчивый характер человека, который не должен был идти на войну из-за брони, а все равно пошел. И вот он идет на смерть, а газеты — только с портретом Сталина. Из чего самокрутки крутить? Из вождя. Мог себе позволить.
— В фейсбуке вы написали, что вы последний писатель земли русской. И как оно?
— Тяжесть эту несу каждый день, еле ноги волочатся. (Смеется.) В большей степени это, конечно, стеб. Так говорит во мне человек здравомыслящий и скромный. Но с другой стороны, если уже совсем по правде, именно так я себя ощущаю — последним поэтом деревни, последним писателем земли русской. Я и домашних прошу ко мне только так обращаться: классик в изгнании.
— Вы живете в Берлине. Там лучше пишется?
— Русские писатели создали массу прекрасных вещей за границей. Горький написал свой главный роман «Мать», с которым рабочие шли на баррикады в 1917-м, в США. А лично я заметил, что на чужбине, в условиях языкового голода, вдруг прорезается нечто монументальное. Куски романа, которые кажутся мне наиболее удачными, пронзительными — почти все они написаны за границей. В Германии и еще в Турции. Вокруг были минареты, пел муэдзин, призывая на службу мусульман, а я сидел и писал роман про русскую землю. И, знаете, в этом антураже иногда выходит очень зашибись.
— А что для вас русская земля?
— Объяснить сложно, но вот по крови, по образу мысли, я себя чувствую на 100 % русским. Я родился у стен монастыря. Я жил в двух шагах от камня, где молился чудотворец Серафим Саровский. И когда спрашивают про русскую землю, я представляю себе все это: камень, мох, лес, красный монастырский кирпич. Все вместе — это часть моего генетического кода.