«Селезень-исполин кормит ягодкой нагого мужчину». Как Иероним Босх изображал секс — из-за которого нам всем, разумеется, гореть в аду
В издательстве АСТ вышла книга «Гибриды Средневековья. Код Иеронима Босха». Ее автор, культуролог Валерия Косякова, рассказывает о босховском символизме и смыслах, скрывающихся за его причудливыми образами. Публикуем фрагмент главы «Сад растления» — о том, какой грех Ева совершила первым, о зловредных розах и о рыбах-пенисах.
Сад — не только пространство Эдема, это также и пространство нарушения священного завета, место искушения змием и знанием, место краха союза меж человеком и Богом. Помимо того, в средневековой повседневности, в тогдашней мирской жизни сад — топос весьма определенного назначения и с конкретной семантикой: пространство эротоманов и влюбленных, похотливых случек и патетических встреч, изящных, изощренных, фривольных и куртуазных межполовых игрищ.
Сценами неистового кишения обнаженной плоти изобилует центральная часть триптиха. Нагие мужчины и женщины как одержимые вкушают плоды, предаются телесным усладам и отрадам, эротическим негам и сексуальным утехам. Место действия — сад.
Идеи сладострастия и телесных наслаждений выражены в зримых метафорах и визуализированных пословицах, образах дегустации различных плодов и ягод: винограда, малины, клубники, земляники, вишни, ежевики — также ассоциировавшихся с любовными забавами.
Да и сам образ сада, благодаря куртуазной культуре, воспринимался как место совращений и прелюбодеяний, порочных увеселений и плотских услаждений. Многие сюжеты средневековой литературы пикантного характера разворачивались в саду, среди роз и прочих цветов, пробуждающих мороком благоухания истому, страсть и вожделение.
Взору, обращенному на триптих, предстает обилие нагих тел в разнообразных эротических (более того — табуированных) проявлениях и позах. Половой акт в средневековой мысли воспринимался как неизбежное зло, необходимое для продолжения рода человеческого. При этом поддаваться и следовать соблазну, а тем более — о ужас! не приведи боже! — получать и вкушать удовольствие от соития, было делом греховным и строго запретным. Церковный календарь в компании с церковным надзором (альянс клерикальной стратегии и тактики) контролировал, координировал и корректировал жизнь тела обстоятельной системой постов и запретов, — среди коих табуирование и ограничение секса занимало весьма значительный сегмент.
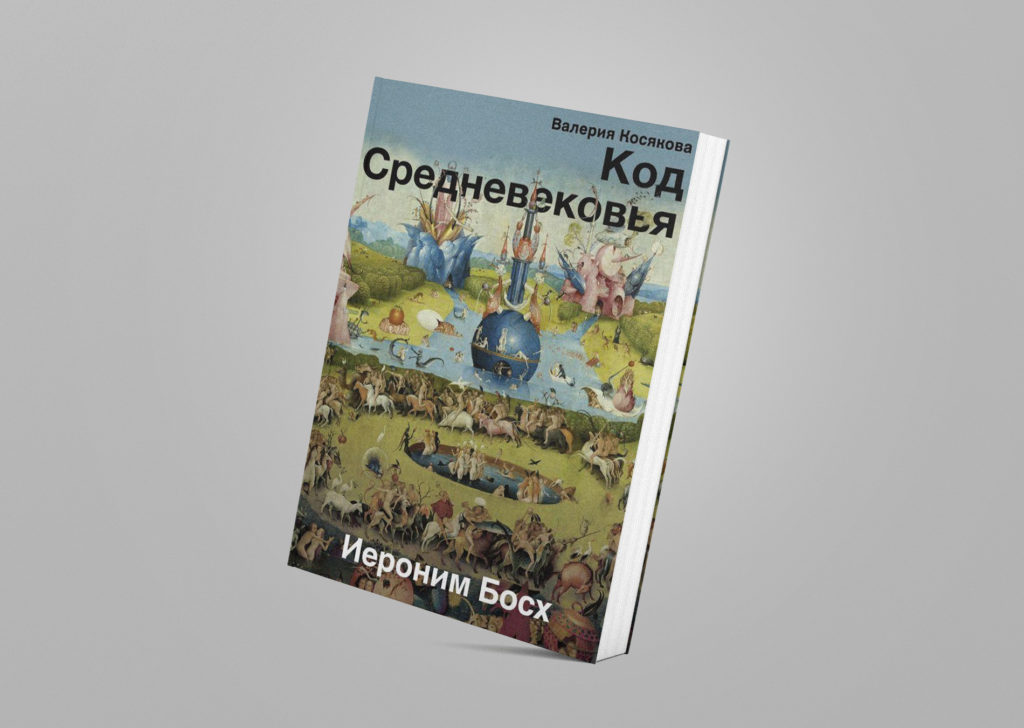
Центральная панель «Сада земных наслаждений» изображает досадный, но закономерный результат невоздержанности Евы и Адама.
Согласно одному средневековому поверью, до грехопадения Адам и Ева совокуплялись без пыла и страсти, но исключительно для продолжения рода. Считалось, что первый грех, совершенный после того, как Ева вкусила запретный плод, был грехом похоти.
Зов плоти овладел человеком — эта идея представлена в композиции триптиха образами страстей, воплощенных фигурами бегущих вокруг озера животных. На них восседают нагие мужчины, пожирающие похотливыми взглядами тела женщин в озере. Мужчины одержимы, влекомы или ведомы своей животной страстью, стремглав несущей во грех.
Согласно мысли Блаженного Августина, грехопадение прародичей всего люда генетически сопряжено с грехом гордыни. Однако позже возникла идея, что именно неумеренное проявление плотского желания стало источником и причиной соблазна. Агриппа Неттесгеймский, к примеру, понимал похоть не как следствие, а как причину первоначального грехопадения, связав его с сексуальным актом. Еще до Агриппы, создавшего свою работу в 1518 году (и опубликованную в Антверпене в 1529 году), зримая репрезентация первогреха порой носила эротические обертоны и подтексты, хотя в сценах грехопадения, рожденных раннесредневековым искусством, не было акцента на физической составляющей преступления против Божьего завета. Сексуальные коннотации материализовались, став отчетливо заметными в XV–XVI веках у Иеронима Босха, Ганса Бальдунга, Яна Госсарта и других художников Севера.
На дальнем плане центральной панели расположилось огромное озеро. Обретают в нем свой исток (либо впадают в него) четыре реки, каждая из коих будто удаляется в одну из известных четырех сторон света. Таким образом сей водоем подобен зловещему четырехногому насекомому, овладевшему миром, охватившему и контролирующему его.
Каждую из рек маркируют гигантские причудливые сооружения: внутри, около и на них лазают, ползают, прячутся и обнимаются обнаженные люди. В самой середине озера царственно вознесся фонтан похоти и прелюбодеяния, ереси и греха.
В самом центре триптиха расположено еще одно озеро, представляющее собой ровный круг, оттого похожее на искусственный водоем. Оно наполнено обнаженными девицами разных мастей и цветов кожи. Головы большинства из них венчает фрукт или птица. Длинные золотистые волосы нагих распутниц устойчиво ассоциируются с изображением богини Венеры. Вся сцена вопиет о распущенности и потере благоразумия в мире, ведь Венера — олицетворение эротического искуса, манок для похоти, соблазн, совращающий податливых с праведного пути. Такой аспект и ракурс сближает и соединяет образ Венеры с образом Евы, что прельстила и совратила Адама, разбудив его чувственность и гордыню.
Слиянию Венеры и Евы в единый образ содействовало также и то, что при табуированности изображения нагого женского тела в первую очередь именно эти женские персонажи дозволялось изображать в обнаженном виде. Астрологические трактаты, как указывалось в предыдущей главе, влияли на образный ряд триптиха: рожденные под знаком планеты Венеры уличались в необузданной жажде плотских удовольствий, коими изобилует «Сад земных наслаждений».
Средневековая иконография нередко экспроприировала и адаптировала языческие, античные сюжеты, заставляя служить их на благо христианской пропаганде. Образ Венеры (или же Афродиты) продолжил существование на страницах рукописей, в миниатюре, в поэзии, в толкованиях отцов церкви, а также в фольклоре, легендах и сказаниях.
Фабий Фульгенций (епископ Руспы, конец V века н. э.), увидев мозаику с изображением Афродиты/Венеры, истолковал ее как символ похоти. Святой утверждал, что богиня представлялась бесстыдно обнаженной, поскольку грех сластолюбия никогда не скрываем, а плавающей — потому что «всякая похоть терпит крушение своих дел».
Устойчивые атрибуты языческой богини (голуби и раковины) Фабий понимал как метафоры совокупления, а розы (или другие цветы), среди которых часто изображалась Венера, трактовал в духе моралите: «роза доставляет удовольствие, но сметается быстрым движением времён года, так и похоть приятна на мгновение, но сметена навсегда».
Для Фабия Венера значила вожделение, а для Исидора Севильского (ок. 560–636 гг.) — половое размножение (Исидор вдобавок объявил сына Венеры Эрота/Купидона «демоном блудодеяния»). Блаженный Августин рассуждал о женском (Либера) и мужском (Либер) божествах, производящих женское и мужское семя. Августин отождествлял Либеру с Венерой, а с Либером связывал образы плодов и семян, а также виноград и виноградные лозы, которыми изобилует центральная панель «Сада земных наслаждений». Безусловно, плоды и семя не являются исключительно плодами и семенами, но метафорами плодородия и размножения.
Венера идентифицировалась с похотью, одним из семи смертных грехов, изображалась с зеркалом как символом праздной неги и нарциссизма, который должен быть преодолен и побежден Целомудрием. Образ женщины с зеркалом возникает у Босха на адских створках триптихов и в аллегориях греха гордыни.
Краса и нагота Венеры вызывали тревогу и страх перед сексуальностью, перед стихийной мощью либидо: сохранились сказки о юношах, соблазненных Венерой и ставших служителями дьявола. Случайно же найденные античные статуи или изображения богини нередко считались источниками бед.
Венера, конечно, ассоциировалась с планетой, персонифицированой в образе этой богини в астрологических трактатах. Мы же помним, что жизнь небесных тел в средневековой картине мира непосредственно влияла как на характер, на темперамент, так и на физическое состояние человека.
Планета (богиня или природная сила) воздействовала на физиологию людей. Считалось, что производство семени, как и менструальных жидкостей, зависело от взаимодействия тепла и влаги (средневековая медицинская теория полагала, что сперматозоиды генерируются в крови). Управляя теплом, влагой и кровью, Венера запускает процессы производства спермы и менструальной жидкости. И мужчины, и женщины восприимчивы к астральным влияниям Венеры, однако последние почитались более уязвимыми пред ней. В средневековой медицине и астрологии постулировалось, что женское тело накапливало избытки влаги, которые отчасти изливались (очищая) во время менструации, и было холоднее мужского, по своей природе более теплого, и не столь перегруженного водами. Птолемей, а вслед за ним средневековые авторы, называют Венеру, связанную со влагой, женской планетой. Венера, обладая властью над теплом и влагой, «естественным путем» управляет женщинами через взаимосвязь менструаций, сексуального желания и способности к деторождению. Как и молодые люди и аристократы, женщины удостаивались чести называться «детьми Венеры», но если первая группа могла избежать планетарных влияний, то женщины по своей природе принадлежали Венере.
Объясняя это неравенство, Боккаччо утверждал, что женщины очень сильно возбуждаются под воздействием нагревания от Венеры.
Да и в целом средневековая наука утверждает представление о женщинах как о сексуально неуравновешенных существах: женщины эмоциональнее мужчин, а поэтому склонны к унынию, зависти, любовной тоске, сексуальным излишествам. Так формируются мифы о женской сексуальной несдержанности, распущенности и доступности.
Так средневековая патриархальная идеология (склонная, как и всякая идеология, к маскировке) прячется за фасадом псевдофизиологических аргументов, которые легитимируют ее право определять судьбу и облик мира.
В XV веке мы находим ряд произведений о поведении людей под воздействием Венеры. К примеру, в «Храме из стекла» Джона Лидгейта, поэта XV века, богиня любви — символ коитуса и страсти. Примечательно, что этот текст связан с логикой чувственного сна, который видит главная героиня. Храм же любви передан как стеклянный, — хрупкий материал повсеместно представлен на картине Босха: трубки, осколки, пара в стеклянном шару и т. п. Иногда символику стекла трактуют в алхимическом ключе. Хрупкость стеклянных предметов метафорически означает как иллюзорность и зыбкость эротических грез, так и обманчивость, ошибочность и опасность явных чувственных влечений. Как и фонтан Венеры или источник вечной молодости.

Вокруг озера скачут обнаженные мужчины — этот зацикленный бег символизирует женскую власть над мужчинами, рыцарями, теряющими благоразумие и самоконтроль.
Завороженные силой женского, чувственного притяжения (как был заворожен Адам), мужчины уподоблены диким зверям, которых они оседлали. Наездники образуют процессию, хоровод вожделения и порока, ведь они «дураки Венеры», — пленники своей похоти. Животные, такие как дикий кабан, лошадь, осел, медведь, коза, бык, верблюд, лев и леопард (некоторые из них изображены с подчеркнуто гипертрофированными гениталиями) в бестиариях обозначают разнообразные грехи, порождаемые человеческими страстями.
Соответственно, животные несут и направляют горе-всадников ко грехам. К тому же — в повседневной речевой практике и литературе времени Босха нередко использовались эвфемизмы и выражения, воспроизводящие образы верховой езды или оседлания животных и служащие для обозначения полового акта.
Более того, круговая езда на диких животных относится к популярным дохристианским обрядам и практикам, связанным с культом плодородия и атавистично представленным в средневековых народных гуляниях. На этих весенних (обычно майских) праздниках женщины выбирали себе ухажеров и разворачивались особые процессии, посвященные культам воды и деревьев, в ходе которых мужчины ползали вокруг пруда и лазали на дерево. Рудименты сих ритуальных действ отражены у Босха в «Корабле дураков»: во фрагменте, где парень карабкается по стволу намазанного жиром дерева, крона которого служит обителью для дьявольского духа.
Изображая «майское озеро», Босх создает пародию, негативный пример служения любви плотской в отличие от христианской любви, аскетической и целомудренной. Космический порядок, установленный Богом, нарушен, как нарушены принципы брака.
Центральная часть триптиха, особенно под озером распутств, пестрит разнообразными субститутами мужских и женских гениталий.
На правой стороне панели изображена пляшущая пара, увитая плющом с причудливыми цветами, напоминающими фиалки, и плодами, ассоциирующимися с фаллосом. Слева от пляски — лежащая пара: вместо головы у мужчины — синий плод (по мнению исследователя Эрика де Брёйна — виноградинка). Да и вообще многие герои этого триптиха лезут во фрукты и ягоды, будто заворачиваются в их шкурку.
Дело в том, что старонидерландское слово “scille” могло означать и ссору, и драку, и «фруктовую шкуру, кожуру». Босх буквально изобразил поговорку “scille zijn” (быть во фруктовой коже), что в переносном смысле обозначало «быть в бою», а образ борьбы и боя имел эротические коннотации полового акта. Вместе с тем, в старонидерландском языке лексемы «голова» и «виноград» имели общее значение в определенном контексте. Так голова «ассоциировалась с “glans penis” — головкой полового члена. Если «головка» систематично фигурировала и в медицинских справочниках, и в литературе с эротическими метафорами, то при чем здесь виноград?
В поэзии XV–XVI веков у редирейкеров можно найти множество описаний этой ягоды в пылком и похотливом аллегорико-поэтическом контексте. К примеру, в одном из стихотворений (собранных в единый сборник Яном ван Стиевуортом) обманутый любовник жалуется на ненадежность своей любимой.
В третьей строфе он вспоминает время, когда их любовная связь всё еще была сильной, говоря буквально следующее: я пожертвовал самую красивую ягодку с грозди виноградной на твой алтарь. Алтарь в данном контексте — вагина бесчестной любовницы.
«Алтарь Венеры» — устойчивая поэтическая аллегория, эвфемизм, многократно встречающийся в любовном контексте. Виноград — символ пениса. Так Босх прямо визуализировал метафору, — в голове, в помыслах мужчины значима лишь головка фаллоса, которым он по сути и является.
Иероним демонстрирует чрезвычайно разнообразные проявления услад плоти, блуда и развращенности: гетеро- и гомосексуальность, скотоложество. Весьма примечательна в этом контексте сцена, разыгрывающаяся на переднем плане (в самом низу центральной панели триптиха): селезень-исполин кормит ягодкой нагого мужчину, разместившегося внутри синего и полого, словно выеденное яйцо, плода, из которого торчит рука, ласкающая рыбу. Вне всяких сомнений, рыба в этой сцене — субститут, метафора или символ фаллоса. По положению же торчащей из плода руки можно легко догадаться о позиции скрытого от наших глаз тела, голова которого должна находиться в районе паха мужчины, сладострастно лакомящегося ягодой из клюва селезня.
А дополняет этот гомоэротический визуальный ребус весьма красноречивый и считываемый образ: две характерные вишенки, что мужчина держит на уровне своего бедра. Правее и чуть выше — знаменитая сцена с букетом, который с интересом и усердием составляет обнаженный флорист. При этом в качестве вазы для будущего шедевра флористики вполне успешно используется чей-то анус. Теперь уже совсем нетрудно догадаться, что за непристойная забава так увлекает персонажей сей мизансцены.
