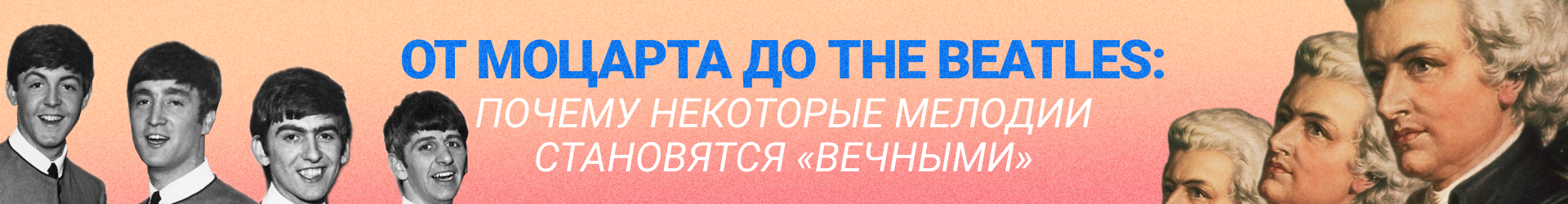Головокружительная пропасть имени меня: почему мы воспринимаем собственную личность как загадку?
«Мы кладем полвека, чтобы себя найти. А затем горим желанием немного себя потерять», — французский философ Паскаль Брюкнер скептически настроен к нашему повальному увлечению поисками самих себя. До заветной цели добираются далеко не все: в попытках понять, кто мы есть, нас засасывает в воронку самокопания и бесплодной внимательности к малейшим движениям в психике или желудке. О том, почему гораздо интереснее найти в себе не того, кого вы искали, и как мы, гонимые страхом раствориться в окружающих нас людях, растворяемся сами в себе, читайте в отрывке из новой книги Брюкнера «Недолговечная вечность», которая вышла в «Издательстве Ивана Лимбаха» в переводе Полины Дроздовой.
Сегодня мы полагаем, что подлинность нашего «я» — другими словами, его соответствие нашему внутреннему миру — должна преобладать над условностями, искренность — над социальными масками, индивидуальное — над коллективным. Но понятие подлинности «я» само по себе двусмысленно.
Идет ли здесь речь о том, что нашему «я» следует стать, как полагалось испокон веков, «я» предопределенным, запрограммированным, которому надлежит проявиться и удовлетвориться самим собой, достигнув цели? В этом случае нас не должны волновать никакие преграды, нам не следует внимать ничьим наставлениям, мы станем руководствоваться исключительно субъективной точкой зрения. И тогда подлинность «я» будет не чем иным, как переиначенным на более благородный и современный лад старым словом «каприз» — своеволием, отличавшим прежних монархов.
Тебя не заботят ни преобразования в обществе, ни нравственное развитие; ты совершенен такой, какой ты есть, ты лелеешь свою индивидуальность, прекрасную уже только потому, что она твоя. Не стоит сопротивляться малейшей своей склонности, ведь твое желание превыше всего. У всех в мире есть обязанности, но не у тебя.
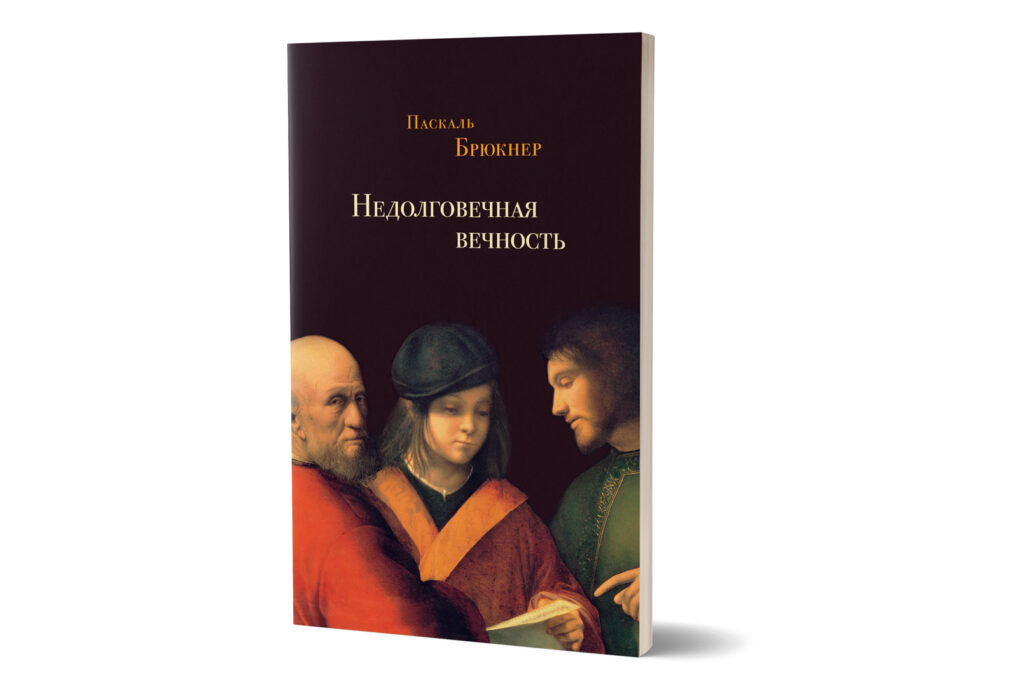
Здесь кроется двусмысленность лозунга «Be yourself» («Будь самим собой»), родившегося в 1960-е годы: чтобы быть собой, нужно еще, чтобы тебе удалось стать самим собой, а в 15 лет ты еще далеко не тот, кем можешь стать однажды.
Предоставленный самому себе, я только и делаю, что без конца собой восхищаюсь: высшую ценность имеет теперь не то, что вне меня, но то, что я ощущаю внутри. Мне больше не нужно «стать» кем-то, в каждый момент времени я уже являюсь тем, кем должен быть, и я могу без сожаления принять свой характер, свои чувства и фантазии.
Поскольку свобода — это возможность избавиться от предопределенностей, мы хотим принимать наше «я» таким, как оно есть (то же явление имеет место в политике в сфере идентичности: каждое меньшинство должно принять себя в своем существующем виде как совершенство и не выходить за пределы своего круга).
Мы ничем не ограничиваем наши желания и потребности, нам больше не нужно расти — иными словами, создавать дистанцию между одним и другим собой. Каждому из нас остается лишь следовать своим наклонностям, растворяться в самом себе. Странное самодовольство, равно затрагивающее в условиях демократии и личность, и сообщества, которые много мнят о себе и считают, что мир должен им всё.
Как бы ни было, мы рано или поздно становимся чем-то, что для простоты называем собственным «я». К удобству быть собой добавляется неудобство быть только собой. Мы создали себя, но мы хотели бы пересоздать себя заново или разрушить созданное. И здесь, возможно, возраст позволит взглянуть с большей проницательностью на провозглашение своего «я» совершенным образцом.
«Познай себя», говорил греческий оракул, чтобы знать свои пределы и свои возможности. Но, увы, в моем «я» есть только я, — что бы я ни делал, — а мне для существования нужно чуть больше, чем собственная сущность. Эти владения не составит труда окинуть хозяйским взором.
Что же происходит, когда мы стали теми, кто мы есть, — познаём ли мы себя или остаемся для себя загадкой? «Я не знаю, кто я есть, я не есть то, что я знаю», — говорил немецкий мистик Ангелус Силезиус (1624–1677). Фрейд добавил бы: я не тот, кем я себя полагаю, мое «я» не властно надо мной, им движут великие силы бессознательного и Сверх-Я, вихрь желаний и суд критики. Допустим; но это не делает каждого из нас великим Другим или человеком, потрясающим глубиной и необычностью. Даже если психоанализ часто оставляет у пациентов восхитительное ощущение, что они воспарили над безднами своей души.
При этом есть риск не только вообразить себя кем-то, и зачастую вполне успешно (Шатобриан и Виктор Гюго служат нам в этом прекрасными примерами), но и замкнуться в своей великолепной уникальности, воспроизводя до бесконечности одного и того же персонажа.
Разве не более захватывающим было бы заявить: стань тем, кем ты не являешься. Мы кладем полвека, чтобы себя найти. А затем горим желанием немного себя потерять.
Если каждый из нас — это множество, то какие персонажи появятся под занавес? Возможно ли, чтобы незрелость, затянувшаяся сверх предусмотренных сроков, стала еще и козырем — способом смотреть на мир с удивлением до самого позднего возраста. Молодость: все, или почти все, хотят стать почетными гражданами этой давным-давно пропащей страны. «Я чувствую себя молодым», — говорят 40-, 50- и даже 60-летние, и, вполне вероятно, они правы в своем юношеском бунте против очевидного.
«Сорок лет, — говорил Пеги, — возраст ужасный, возраст непростительный <…> Это больше не мучительный возраст, как о нем болтают <…> Потому что это возраст, когда мы становимся теми, кто мы есть».
Фатальное видение, нависающее, точно нож гильотины: сорокалетний человек, ограниченный, как стенами тюрьмы, своими временными рамками и не имеющий возможности выйти за их пределы. Один, наедине с самим собой, он скоро начнет сходить с ума. А значит, просто необходимо прекратить копаться в самом себе, нужно с головой окунуться в какое-то дело, в работу или любовь.
Нет ничего ужасного или непоправимого в том, чтобы вновь обратиться к формулировке Пеги, если не брать во внимание, что в его время сорокалетие считалось преддверием старости. Однако сегодня сорокалетний — почти мальчишка в глазах общества, и у него еще достаточно сил и возможностей, чтобы измениться и открыть в себе новые неожиданные стороны.
Забота о себе, которую так горячо проповедовал Мишель Фуко на закате своей карьеры, оправдана тогда, когда мы получаем образование. Впоследствии мы понимаем ее скорее как праздность, благоразумное расходование сил. Желание состояться как личность предполагает намерение избежать подобного понимания.
Руссо дал блестящее определение, отличающее любовь к себе — положительное чувство — от себялюбия, рождающегося при соперничестве и сравнении себя с другими.
Есть и третий вид этой любви — беспокойное самолюбие, которое получило развитие с популяризацией фрейдистского учения: оно превращает каждого человека в сгусток трудностей и проблем, регулярно изливаемых им на своих ближних или на своего психоаналитика.
Это рассказ в виде перечня невзгод, родившийся из христианской исповеди, — самокопание, делающее из незначительного события захватывающую эпопею: все обретает смысл, все достойно упоминания, никакая деталь не отбрасывается за ненадобностью, нужно разобрать себя по косточкам, без конца выискивая параллели и ассоциации. Всем известны такие люди, которые погружены в самих себя и не имеют сил расстаться с мыслями о мелких сложностях. (И это уже само по себе несчастье, что человек никогда не может убежать от себя самого.)
Эти мысли постоянно гложут их, никогда не оставляя в покое, и куда бы они ни пошли, что бы ни делали, их мысли следуют по привычной колее, как игла на заезженной пластинке.
Такие люди полагают себя наделенными неисчерпаемой в своей многогранности психикой и ищут толкование малейшим своим оговоркам или огрехам, как если бы речь шла о героических поступках.
Трактовка собственных мыслей и действий становится их проклятием, они беспрестанно расшифровывают себя как непостижимую загадку. Их пленяет та головокружительная пропасть, что зовется их собственным «я». Но эта пропасть является также и адом, который мешает им выйти за рамки себя и оставляет их томиться в собственной раковине.