Непобедимое ego: действительно ли буддизм предписывает нам уничтожать свое «я»
По поводу буддизма до сих пор бытует множество предрассудков, порождающих недопонимание: например, действительно ли он призывает к уничтожению «я»? И если нет — то к чему тогда? Можно ли с помощью медитации привлечь в свою жизнь богатство, мужа, кота и успех? Чем обусловлены эти «проблемные зоны недопонимания» — неверной рецепцией буддизма западной культурой, противоречиями в рамках самой буддийской традиции или чем-то еще? Попробуем разобраться вместе с Антоном Безмолитвенным.
Пути господни: как о буддизме узнала западная мысль?
Можно условно выделить два пути проникновения буддийских воззрений на Запад:
1) «сверху» — то, что можно было бы назвать богословской и научной рецепцией буддизма;
2) «снизу» — проникновение отдельных буддийских идей через массовую культуру и транслируемые ею жизненные практики.
Наверное, стоит начать исследование со средневекового (преимущественно православного, если можно так выразиться) романа-жития «Варлаам и Иоасаф», переведенного на грузинский, армянский, греческий, латынь (около X–XI веков) и даже церковнославянский, по своему сюжету восходящего к преданиям о Будде. Содержание романа, если коротко, сводится к следующему: языческий царевич Иоасаф, обращенный в христианство пустынником Варлаамом, обращает свой народ, а затем и сам уходит в пустыню, перед этим сложив с себя унаследованную власть.
Исследователи пришли к однозначному выводу: это житие является не чем иным, как христианской переработкой индийской легенды о ранних годах Будды. Источником, предположительно, является «Лалитавистара», буддийская сутра, записанная на гибридном санскрите.
Конечно же, этим произведением влияние буддизма на византийскую мысль не ограничилось.
Некоторые следы буддийской медитации усматриваются исследователями в практиках исихазма (умнóй молитвы) в православии.
В частности, как отмечает Сергей Хоружий, российский философ и переводчик, а также его коллега буддолог Евгений Штейнер, и в буддизме Дзэн, и в исихазме особое внимание уделяется психосоматическим элементам психотехники, таким как сосредоточение, тренировка восприятия, контроль дыхания, особая поза (сидячее положение со склоненной головой при совершении Иисусовой молитвы, способствующее «сведению ума в сердце», неподвижная сидячая поза — дзадзэн — в буддизме).
Хоружий обнаруживает также сходство «просветления», которое рассматривается им как кульминация медитативной практики, с понятием «синергия», описывающим опыт исихазма. Просветление — внутренний опыт прозрения собственной сущности, истинной природы ума, которое достигается внезапно, в результате действия внешнего импульса (например, медитации над коаном, а также грубого или абсурдного действия и т. п.).
Он пишет: «…в медитации человек оказывается максимально „выведен из себя“, из состояния внутреннего равновесия, его сознание предельно возбуждено, но одновременно оно — в тупике и знает, что не может из него выбраться своими силами. <…> И чем острей, глубже было его чувство тупика и отчаяния, тем более взрывной, мощной является разрядка, тем ярче вспышка и радикальнее перелом в сознании», или, говоря христианским языком, метанойя (metanoia).
Однако исихазм так и остался довольно обособленным направлением в рамках православия, не оказав существенного воздействия на другие ветви христианства.
Дэвид Юм
Шотландский мыслитель Дэвид Юм (1711–1776) наиболее известен своим отказом от идеи врожденного «я» и концепцией человеческого ума как «пучка восприятий», что необычайно близко к буддийским воззрениям. Юм написал одно из самых значительных произведений западной философии — «Трактат о человеческой природе». Мог ли он что-то знать о буддийской философии, когда писал «Трактат»? Как показывает исследование Элисон Гопник, профессора психологии и философии в Университете Калифорнии в Беркли, — мог, приобщившись к ней во время путешествия во Францию. Хотя, по ее собственному признанию, это и не точно.
Аналогии здесь очевидны: примерно так же («бессамостно», как и «пучок восприятий») рассматривает «я» буддийская концепция анатмавады (анатты).
Следующая цитата Юма могла бы принадлежать какому-нибудь абхидхаммисту (буддийскому монаху — исследователю Абхидхаммы):
«Я решаюсь утверждать…, что [люди] суть не что иное, как связка или пучок различных восприятий, следующих друг за другом с непостижимой быстротой и находящихся в постоянном течении».
Что же вызывает в нас такую сильную склонность приписывать тождество этим сменяющим друг друга восприятиям и предполагать, что мы обладаем непрерывным существованием в течение всей жизни? С точки зрения Юма, с целью устранить разрывы мы воображаем непрерывное существование наших чувственных восприятий, а для того, чтобы скрыть изменения, прибегаем к идее души, «я».
Сходство усиливается также скептицизмом Юма, доходящим едва ли не до эпистемологического солипсизма, однако, бесспорно, его воззрение достаточно далеко отходит от буддийских первоисточников (если они и были), порождая оригинальную линию «эмпирического скептицизма» в западноевропейской философии.
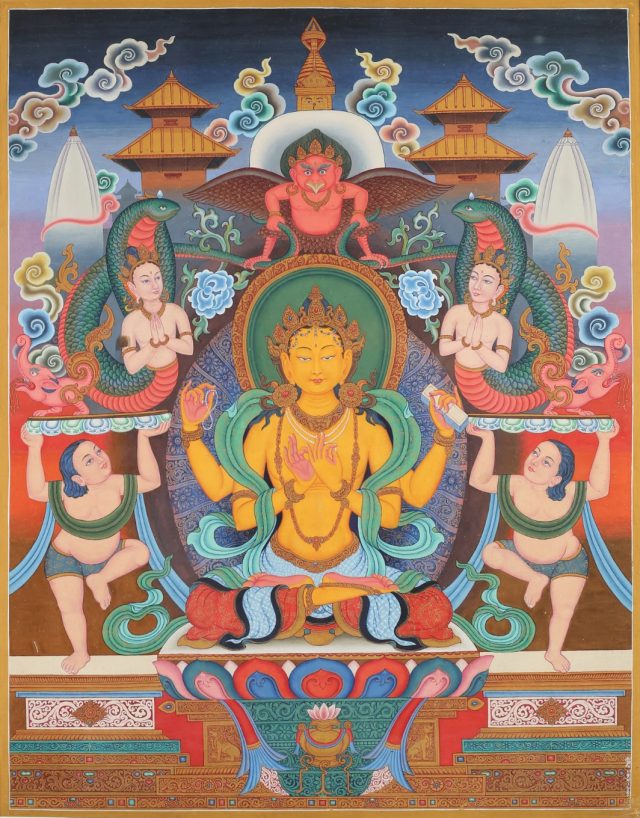
Артур Шопенгауэр
Следующей значимой фигурой европейской мысли, которую необходимо рассмотреть, является Артур Шопенгауэр (1788–1860). Тут уже никаких сомнений в прямых буддийских влияниях нет:
«Буддизм, — писал он, — это самая высшая религия… Этические учения буддизма приняты во всей Азии».
Буддийские трактаты Шопенгауэр прямо называет источником своего философского вдохновения.
Основываясь на них, он утверждает, что страдание — это существенная часть всей жизни. И даже такое понятие, как счастье, в философии Шопенгауэра несет в себе отголосок природы страдания, поскольку неосуществленное желание приносит боль, а осуществленное — пресыщенность, а со временем и отвращение.
Однако и тут следует насторожиться: понимал ли он буддизм так, как это делают сами буддисты?
По всей видимости, не совсем. Несмотря на то, что некоторые идеи его философии действительно во многом близки положениям буддизма, ряд исследователей, в частности Петер Абельсон в работе «Шопенгауэр и буддизм», подвергают сомнению утверждение о том, что мировосприятие Шопенгауэра тождественно буддийскому. Это умозаключение делается на том основании, что пессимизм шопенгауэрианского толка в действительности не выводится из буддийской доктрины.
По сравнению с мировоззрением Шопенгауэра буддизм выглядит значительно более мягким и оптимистичным. Палийское слово «дукха», фигурирующее в первой благородной истине Будды, обычно переводится на европейские языки как «страдание», однако в оригинале имеет значительно более широкое значение «неудовлетворенность в целом».
Дукха — это не только болезнь, пытки, смерть близких и т. д., но и зачесавшаяся нога и даже необходимость постоянно есть и пить. То есть с точки зрения буддизма жизнь отнюдь не сводится к страданиям, просто они в ней, к сожалению, присутствуют.
Более того, в прямом соответствии с принципами Благородного восьмеричного пути «аскетизм в учении Будды предстает не как преднамеренный и преувеличенно строгий, а как умеренный, естественный, проистекающий из следования моральным нормам и принципам любви к человеку и всему живому. Вариант аскетизма, предлагаемый А. Шопенгауэром, начинается с полного самоотречения во имя любви к ближним и завершается абсолютным умерщвлением плоти и добровольной смертью. Такое понимание скорее близко этике джайнизма», — подытоживает Абельсон.
Можно сказать, что Шопенгауэр — один из тех, кто ответственен за «смещенную», неверную во многих аспектах рецепцию буддизма западной философией.
Впоследствии на шопенгауэрианское восприятие буддизма опирались многие философы и психологи: Уильям Джеймс (с его концепцией «потока сознания»), Джон Дьюи и др. Не будем углубляться в это подробнее, просто отметим этот факт.
А вот философское направление, в исследование связей которого с буддизмом имеет смысл углубиться, — это, несомненно, феноменология. Однако прибережем ее напоследок. А пока рассмотрим второй путь проникновения буддизма в западное сознание — через массовую культуру.
Буддизм и нью-эйдж
Сегодня представления масс о буддизме формируются, как правило, совсем не философскими рецепциями, а так называемым нью-эйджем. Все эти бесконечные «медитации на деньги», «медитации на мужа» и прочие «медитации», разумеется, не имеют к буддизму никакого отношения.
Почему же стало возможным такое смешение? Только лишь из-за концептуальных искажений «омрачненного буддизма», внесенных Шопенгауэром? Как вышло, что симулякр буддизма заслонил собой оригинал в сознании множества людей и смешал представления о нем? Чтобы разобраться в этом, следует погрузиться в историю теософии.
В 1875 году Елена Блаватская совместно с Генри Олкоттом основала в Нью-Йорке Теософское общество. По уверениям самих основателей, термин «теософия» восходит к неоплатоникам, а ранние элементы «теософии» сложились еще в Древней Индии. Блаватская и Олкотт базировались на идее существования некой Тайной доктрины, разделяемой фантастическим Гималайским братством Учителей. На вершине иерархии «тайных Учителей» стоит некий «владыка мира», обитающий в мифической стране Шамбале в пустыне Гоби. Отсюда и тяга теософов ко всей линии индийских духовных практик, в первую очередь — к буддизму.
С целью «приобщения к корням» Олкотт и Блаватская приплывают на Шри-Ланку 17 мая 1880 года. Миггетувате Гунананда, буддийский монах, проводивший знаменитые дебаты между буддистами и христианами в Панадуре, был одним из тех, кто встречал их на причале. Под его руководством Олкотт пишет «Буддийский катехизис», первый вариант которого выходит в 1881 году.
«Буддийский катехизис» выдержал 44 издания и был переведен на несколько десятков языков.
Книга Олкотта стала в западном мире едва ли не учебным пособием по основам буддизма. В этом отчасти и коренятся истоки недопониманий и ошибок в интерпретации, которые бытуют до сих пор по отношению к буддизму.
Интересно, что Гунананда, который первоначально поддерживал это начинание, прочтя текст, нашел там множество несоответствий и в конечном итоге счел его искажающим суть буддийского учения.
По поводу теософского «необуддизма» транслировалось три критических замечания:
1. Теософы совмещали буддизм и вульгарно-простонародную версию доктрины перевоплощений, то есть прямо после озвучивания доктрины анатмавады, отсутствия «я», они часто начинают уверять своих последователей в том, что возможно сохранение какой-то индивидуальной сущности между разными перевоплощениями. Это вылилось в популярно-пропагандистский вариант реинкарнационного мифа, обещающий людям бессмертие их личности. Например, утверждалось, что Елена Блаватская была Жанной д’Арк, Ориген был Аполлонием Тианским, Перикл — Пифагором и т. д. В буддизме ничего подобного нет.
Интересно, что эти уверения делались вопреки прямому заявлению Блаватской о том, что «новое воплощение не может последовать без перерыва от одной до двух тысяч лет».
2. В собственно философских пассажах теософов систематически смешивались буддизм с индуизмом. Душа (которой нет с точки зрения буддийского принципа анатмавады) для теософов — проявление Единого (что бы это ни значило), и Оно может проявлять себя в разных отражениях.
«Одна и та же Жизнь, одно Я пребывает во всех формах Вселенной; это общее Я, желающее проявиться, и есть скрытый источник всех эволюционных процессов», — пишет Елена Блаватская в работе «Перевоплощение».
То есть это позиция, характерная для индуизма с его верой в атман, а не буддизма, отрицающего его наличие.
Кроме того, перерождения объявлялись некоторыми теософами материальными, сводимыми к круговороту физических частиц:
«Те частицы, что составляют ныне свойственную нам комбинацию, ранее уже „проявлялись“ в более низком качестве. И обратно — то, что сейчас составляет человека, может уйти назад в растение или животное. И не только животное может „перевоплотиться“ в человека, но и растение…»
Ничего подобного, конечно же, нет в буддизме.
3. Еще одно отличие теософии от буддизма состоит в отношении к сансаре. Одно из исходных положений буддизма — это осознание необходимости выйти из цепи перевоплощений. Напротив, теософы основываются на жажде обретения новых («качественных») перевоплощений в будущем.
Введение термина «медитация» в нью-эйдж-смысле также является заслугой Блаватской. Например, в ее «Тайной доктрине» можно прочитать следующее:
«Медитация — это безмолвная и неизреченная молитва, или, как говорил о ней Платон, „устремление души к божественному, не просьба о каком-то личном благе (в общепринятом значении молитвы), но обращение к самому Добру — к вселенскому Высшему Благу“, частью которого мы являемся на земле, и из сущности которого все мы возникли».
Чем же является медитация в буддизме? «Бхаваной» на языке пали, то есть возделыванием, культивированием определенных склонностей своего ума. Без всяких молитв и обращений.
В дальнейшем, при распаде Теософского общества на множество сект, школ и направлений, запустившем социальную лавину, приведшую к расцвету нью-эйджа, эта ситуация «систематического искажения буддизма в массовом сознании» только осложнилась. Сегодня, как мы знаем, под медитацией может пониматься вообще всё, что угодно.

Феноменологический метод: непосредственность и беспредпосылочность
Однако есть направление в западной философии, которое вызывает ощущение близкого родства с буддизмом. Настолько близкого, что иногда оно доходит до неразличимости. И направление это — феноменология.
Его основатель Эдмунд Гуссерль задается целью построения философии, опирающейся только на очевидности — и позволяющей описать всё многообразие наблюдаемых феноменов, исходя из этих очевидностей.
Что же кладется в основу предлагаемого им метода? По сути, сомнение Декарта. Феноменологию сами ее приверженцы иногда называют «картезианством XX века».
Гуссерль продолжает и развивает эту картезианскую линию, формулируя правила феноменологического метода, в основе которых — требования непосредственности и беспредпосылочности. Однако получается ли у него последовательно соблюсти их? Для ответа на этот вопрос давайте проанализируем концептуальные ходы Декарта и посмотрим, что добавляет к ним Гуссерль.
Как известно, рассуждая о своем методе, Декарт постулирует следующее (вполне феноменологическое по духу) правило:
«…никогда не принимать за истинное ничего, что я не признал бы таковым с очевидностью, то есть тщательно избегать поспешности и предубеждения и включать в свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и отчетливо, что никоим образом не сможет дать повод к сомнению».
В результате этого систематического сомнения Декарт и формулирует знаменитое cogito ergo sum, «мыслю, следовательно существую».
В ходе дальнейших размышлений Декарт приходит к следующему положению:
«Тут меня осеняет, что мышление существует: ведь одно лишь оно не может быть мной отторгнуто. Я есмь, я существую — это очевидно. Но сколь долго я существую? Столько, сколько я мыслю. Весьма возможно, если у меня прекратится всякая мысль, я сию же минуту полностью уйду в небытие».
Из этого можно сделать разные выводы. Утверждение «я мыслю, следовательно существую» могло бы означать всего лишь «я мыслю, следовательно мышление существует», а в пределе даже — «мышление существует, следовательно, мышление существует».
Для выхода из этой неприятной для него ситуации неопределенности Декарт вводит в свое рассуждение Бога, «гаранта отсутствия обмана» (по поводу существования окружающего мира и собственного «я»), приходя в итоге к дуализму — воззрению, согласно которому существует два независимых друг от друга вида субстанции: идеальная (мое сознание) и материальная (объекты окружающего мира).
Гуссерль же, радикализируя декартовское сомнение, приходит к феноменологической редукции — операции «заключения мира в скобки». То есть к эпохé (воздержанию от суждений), своеобразному «эпистемологическому солипсизму», установке, согласно которой само наличие мыслей и восприятий в опыте является несомненным, а существование внешнего мира (и уж тем более Бога) — сомнительным. Интересно, что на этом этапе редукции сомнительным также де-факто оказывается и представление о наличии какого-то неизменного «я», несводимого к простой совокупности наблюдаемого.
Однако, не довольствуясь этим, Гуссерль предпринимает следующий ход — эйдетическую редукцию (от греческого слова «эйдос» — идея).
Если феноменологическая редукция оставляет для рассмотрения только феномены внутреннего опыта, то эйдетическая редукция — «сущностные формы сферы психического бытия». Что это значит? Это значит, что рассматривается не конкретное явление, которое существует в восприятии на данный момент, не конкретный стол, а существование феномена как такового. Это не данное мне сейчас восприятие зеленого (например, стола), но восприятие зеленого вообще.
В результате проведения двухуровневой редукции, по Гуссерлю, открывается путь к «заключительной» редукции третьего типа — трансцендентальной, при которой остается лишь так называемое чистое «я». Это «я» (или ego) Гуссерль назвал трансцендентальным. На этом этапе остаются только два типа феноменологических данностей — то, что воспринимается, и то, что воспринимает. Ставится вопрос: «Что есть то, что воспринимает?», то есть: «Что есть само сознание?» Ответ Гуссерля: это трансцендентальное «я», задающее единство актов сознания во времени. Я — тождественный субстрат неизменных особенностей Я; его бытие («Я есмь») — аподиктическая очевидность, пишет он в «Картезианских размышлениях».
Интересно, что в своей первой большой работе, посвященной феноменологии, в «Логических исследованиях», Гуссерль полагал, что «я» — лишь единство эмпирического сознания (то есть переживания сознания, а также их связи), тем самым, по сути, отрицая существование чистого, или трансцендентального, «я». Однако в последующих сочинениях он поменял эту установку.
Теперь мы наконец готовы рассмотреть сходства и различия феноменологии и буддийского мировоззрения. Однако перед этим стоит задаться важным вопросом: насколько хорошо Гуссерль был осведомлен о буддизме?
К сожалению, трудно судить об этом однозначно. В своих трудах и публичных лекциях он почти не обращался к буддийской философии. Самым значимым текстом, в котором Гуссерль хоть как-то затрагивает эту проблематику, является одностраничный отзыв 1925 года на переиздание немецкого перевода Сутта-питаки (одной из «корзин» Палийского канона), выполненного Карлом Нойманом. Примечательно, что отзыв посвящен именно переводу, а не содержанию переведенных текстов. Карл Шуман, один из крупнейших исследователей творческого наследия Гуссерля, полагает, что основоположник феноменологии читал лишь несколько буддийских первоисточников. И, судя по всему, был далек от того, чтобы руководствоваться практиками Благородного восьмеричного пути при создании своей дисциплины.
Однако многие авторы отмечают необычайную близость установок феноменологической философии и буддизма. Например, Фред Ханна в статье «Гуссерль о „Наставлениях Будды“» перечисляет следующие точки пересечения двух доктрин:
- буддизм, как и феноменология, отказывается от «естественной установки» — априорных представлений относительно существования объективной реальности и сознания;
- подобно буддистам, Гуссерль отрицает несомненный характер эмпирического «я», признавая тем не менее очевидным трансцендентальное «я»;
- и феноменология, и буддизм считают необходимым опираться на чистый, безоценочный, необусловленный опыт.
Профессор Китайского университета Гонконга Кхуок-Ин Лау, подчеркивая эту общность буддизма и феноменологии, пишет:
«Посредством медитативных практик мы отворачиваемся от каких-либо естественных жизненных интересов. Будучи выраженным в феноменологических терминах, это равносильно отказу от естественной установки в практике эпохе, которая составляет первый шаг метода феноменологической редукции».
Однако, безусловно, между гуссерлевской дисциплиной о сознании и буддизмом есть и принципиальные различия. Какие же?
Анализируя метод феноменологической редукции, в первую очередь следует ответить на вопрос: можно ли вообще исследовать что-либо непосредственно, выдержав требование «беспредпосылочности»? Как минимум это требование затруднительно выполнить из-за необходимости выражать усмотренное в созерцании в предложениях языка, который опосредствует всякую фиксацию опыта. Язык выступает посредником, знаковой прослойкой, отделяющей познающего субъекта от «самих вещей». Любое знание, выраженное с помощью слов, вряд ли можно назвать «чистым» в феноменологическом смысле.
Как же относится к этому буддизм? Именно так, как описано. Вполне отчетливо осознавая эту проблему и даже намечая способ ее разрешения, заключающийся в радикальном отбрасывании языковой фиксации феноменологического опыта (а тем самым — и эйдетической редукции в целом как метода). В Абхидхамме (компендиуме буддийских представлений о структуре ума) есть различение между «панньяти» (концепциями, описывающими внутренний опыт) и «дхаммами» (самими «чистыми» данными внутреннего опыта). Безусловно, остается вопрос о реализуемости этого решения на практике, но, по крайней мере, в рефлексивности подхода отказать буддистам нельзя.
Весьма примечательным в этом контексте представляется то, что наличие трансцендентального «я» в системе Гуссерля можно вывести только аналитически, на основе понятий, появляющихся после эйдетической редукции, — ведь такой вывод напрямую не следует из непосредственных данных сознания, поскольку «мы в потоке многообразных переживаний… нигде не повстречаемся с чистым „я“ как переживанием среди переживаний», — о чем сам он честно и повествует.
Каковы же воззрения буддизма по поводу «я»?
Анатта — буддийская «безличностность»
С точки зрения буддизма никакого трансцендентального «я», или субъекта, просто нет. То есть никакое «я» не фиксируется в опыте созерцания в момент, когда тот или иной феномен формируется в феноменальном поле сознания. Мысли, восприятия, ощущения просто приходят и уходят. Сознание континуально, текуче. То, что мы считаем «собой», каждое мгновение изменяется. Это воззрение фиксируется в буддийском принципе анатты (или анатмавады), в рамках которого «я» объявляется панньяти, собирательным понятийным ярлыком, лейблом, элементом языка описания опыта, фиксирующим не действительно наблюдаемые в созерцании феномены, а нечто довольно расплывчатое, наподобие слова «университет».
Представьте себе, что вы ходите вместе с другом по территории МГУ. Показываете ему разные учебные корпуса, аудитории, знакомите с преподавателями, студентами. Но он настойчиво спрашивает у вас: «А где, собственно, сам университет?» Разумеется, невозможно ткнуть во что-то конкретное и сказать: «Вот университет» — потому что это собирательное понятие. Показать просто не на что.
Примерно так же обстоит дело и с «я» в буддизме. Существует ли оно? Как что-то сущностное, неизменное и равное самому себе (наподобие гуссерлевского трансцендентального «я») — однозначно нет. Но в качестве концепции, условность (и оторванность от реального опыта) которой заведомо понятна, — вполне себе существует. Главное — не принимать эту концепцию за реальность.
Более того, в аспекте рассмотрения другого буддийского принципа — непостоянства (аниччи, или анитьи) — вообще нельзя говорить о чем-то постоянном в мире. Согласно этому принципу, всё в мире находится в непрестанном движении и ничто не является неизменным, включая звезды, планеты и т. д. Анитья проявляется в человеческой жизни в виде, например, процесса роста и старения — соответственно, в каждое мгновение тот набор скандх (психических паттернов), который можно было бы условно назвать «собой», меняется.
С точки зрения буддийской философии уверенность в существовании «я» по своему статусу примерно аналогична вере в существование объективного мира, которая составляет естественную установку. Только буддизм идет дальше феноменологии, осуществляя что-то наподобие темпоральной редукции, в результате которой рассматривается только то, что дано восприятию в это мгновение.
Кстати, это, в частности, означает, что уничтожать «я» с буддийской точки зрения не нужно, поскольку в абсолютном смысле его просто не существует, это концептуальная иллюзия, которую можно лишь развеять.
Итак, можно констатировать первое важное различие между буддизмом и феноменологией — представление о наличии (в подходе Гуссерля) и отсутствии (в подходе Абхидхаммы) неизменного трансцендентального «я», в буддизме примерно соответствующего понятию «атман».
Второе отличие будет заключаться в вытекающем из этого буддийском принципе отсутствия разделения эмпирического «я» и трансцендентального «я», которое для позднего Гуссерля является едва ли не центральным опорным пунктом всей феноменологической доктрины. Эмпирическое «я» — это конкретное «я», обнаруживаемое феноменологом в ходе эйдетической редукции. Трансцендентальное «я» — это то, что остается в результате трансцендентальной редукции.
Как вы понимаете, с точки зрения буддийского принципа анитьи противопоставление эмпирического и трансцендентального «я» представляется довольно странной затеей — ведь и то, и другое всего лишь панньяти, абстрактные концепции.
Третье отличие заключается в отношении к дискурсивности и возможности прямого невербализуемого созерцания. Гуссерль настаивает на принципе «усмотрения сущностей». Буддизм же относится к этому как к привычке ума концептуализировать созерцание и тем самым создавать ментальные конструкты, иллюзии, что рассматривается как еще одно препятствие, возникающее в ходе практики.
Вероятно, буддисты согласятся с тем, что в «естественном состоянии» ум не способен к прямому, не обусловленному языком созерцанию опыта. Но в целом буддийская философия не отрицает возможности непосредственного постижения реальности. В этом смысле медитацию можно считать своеобразным доведением «до конца» феноменологической редукции.
Итак, резюмируем: несмотря на все различия между западным и восточным подходами, буддийскую доктрину в определенном смысле можно считать последовательной и «доведенной до конца» феноменологией. Возможно, значительно более феноменологичной в самом строгом смысле слова, чем учение Гуссерля.