Послевоенный путеводитель по японской культуре и психологии. Как работа Рут Бенедикт «Хризантема и меч» «объясняла» японцев иностранцам и самим себе
Япония проиграла Вторую мировую войну — и победителям-американцам потребовалось «руководство» по культуре побежденных. Им стала работа Рут Бенедикт «Хризантема и меч». Антропологиня никогда не была в Японии и вывела в книге образ нации, который соответствовал главным образом предвоенной пропаганде. Но, несмотря на справедливую критику, именно через эту книгу многие японцы послевоенной эпохи стали понимать самих себя. Как так вышло? Разбирается Иван Дёгтев.
На английском языке публикация «Хризантемы и меча» состоялась в 1946 году, японский перевод вышел в 1948-м.
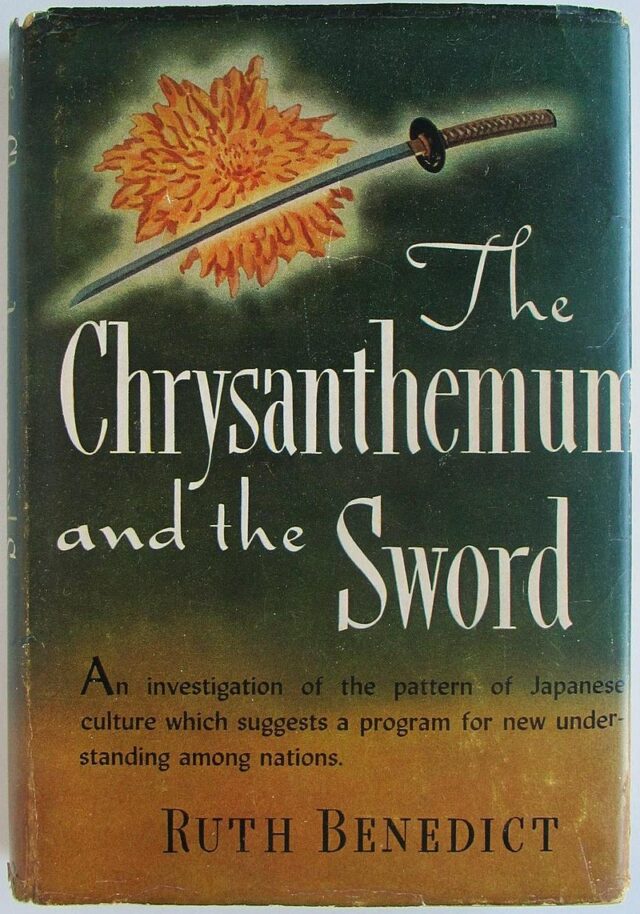
С момента выхода книга Бенедикт выдержала огромное количество переизданий и разошлась тиражом более 2,3 млн экземпляров на японском языке. Это позволило работе Бенедикт, которая пользовалась широким спросом как среди японских мыслителей, так и среди обычных читателей, занять первое место в списке самых продаваемых книг о Японии. Как признавалась исследовательница Сугияма-Лебра Такиэ (1930–2017), в своей жизни ей приходилось встречать немало японцев, которые благодаря «этому откровенному анализу из США» по-новому открывали для себя японское «Я», особенно после того, как поражение в войне погрузило людей в состояние тяжелой утраты и фактически лишило прежней идентичности.
Интересно и то, что «Хризантема и меч» носила во многом прикладной характер, а не просто научный или академический, о чем говорят и причины ее создания.
Как сообщала в предисловии сама Бенедикт, книга была подготовлена по заказу ведомства военной информации США в целях изучения и составления этнопсихологического портрета японцев — «самых чуждых из всех врагов, с которыми Соединенным Штатам когда-либо приходилось вести широкомасштабную войну». Одним словом, после встречи с совершенно отличной стратегией и тактикой ведения боевых действий на Тихом океане у американского командования возникла острая необходимость в анализе моделей поведения азиатского противника.
«Что предпримут японцы? Возможна ли их капитуляция без вторжения? Следует ли подвергать бомбардировке императорский дворец? Чего можно ожидать от японских военнопленных?» — неполный перечень тех вопросов, на которые пыталась ответить Бенедикт в своем исследовании.
Составляя портрет «японцев»
Бенедикт, изображая Японию в качестве полной противоположности Западу, неслучайно использовала ставшую вскоре классической дихотомию хризантемы и меча. Совмещая эти полярные как по значению, так и по эмоциональной нагрузке символы японской культуры, антрополог таким образом подчеркивала дуальный характер национальной идентичности и психологии японцев.
Она утверждала, что японцы и милитаристы, и эстеты, что они в высшей степени агрессивны и миролюбивы, высокомерны и вежливы, упрямы и покорны, кротки и злопамятны, преданны и коварны, храбры и робки, консервативны и восприимчивы к новизне. К тому же, отмечала Бенедикт, «их солдаты в высшей степени дисциплинированны, но столь же — непокорны».
Важным положением в работе Бенедикт является признание иерархической структуры японского общества. В нем, по мнению исследовательницы, всякий японец должен был занимать полагающееся ему по праву место и стремиться исполнить свой долг — перед императором, родителями, учителем, хозяином.
«Японская вера в иерархию является основой всего комплекса их представлений об отношении человека к человеку и отношении человека к государству».
При этом, как считала Бенедикт, не только семья и государство, но даже международные отношения осмыслялись в Японии сквозь призму иерархии. Однако в семье, и только в ней, как отмечала исследовательница, человек усваивал базовые моральные принципы, учился соблюдать сыновнее почтение и проявлять лояльность, которые переносились им на все другие институты общества.
«Жена кланяется мужу, ребенок кланяется отцу, младшие братья — старшим, сестра кланяется всем своим братьям независимо от возраста».
Иными словами, поведение, принимающее в расчет иерархию, для японцев столь же естественно, как дыхание, и именно в такой строгой социальной организации обнаруживались, с точки зрения Бенедикт, истоки тогдашнего антидемократического и милитаристского устройства японского государства.
Бенедикт отмечала различия в образе мышления представителей западного и японского сообществ в различных сферах — начиная от любви и брака, заканчивая отношением к проблеме самоубийства и жизни.
Если, например, американцы, воспитанные в духе христианских традиций и морали, осуждали самоубийство и считали его разновидностью греха, то японцы, согласно Бенедикт, напротив, наделяли этот акт «достоинством и целесообразностью», а при правильном его действии гарантировали «очищение» своего имени и сохранение о себе доброй памяти. Феномен самоубийства, трактуя его как часть философии «гири», или морального долга, Бенедикт именовала «гири перед своим именем», то есть «обязанность блюсти незапятнанность своей репутации».
Объясняя американскому читателю все тонкости японской психологии, Бенедикт фактически нашла ответ на вопрос, почему, попадая в плен или чувствуя безысходность положения, многие японские солдаты времен Второй мировой войны избирали путь самоуничтожения и шли на высокие жертвы ценой собственной жизни.
Наконец, наиболее известным и в то же время громким выводом, к которому пришла Бенедикт в ходе своего исследования, является типологизация японской культуры как культуры стыда. Поведение индивидов в обществе такого типа основывалось на учете мнения социального окружения, а также диктовалось боязнью «потерять лицо» и быть осужденным за свои поступки остальными членами общества.
«Стыд является реакцией на критику со стороны других людей. Человеку стыдно и в случае публичного осмеяния и отказа, и даже если он предстанет в подобной ситуации в воображении».
В отличие от Запада, то есть культуры вины, ориентированной на развитие в личности внутренней системы ценностей и чувства собственной неправоты, Японии была присуща ориентация на внешнюю мотивацию и зависимость от оценок социума. Кроме того, Бенедикт и вовсе подчеркивала, что такие практики, как исповедь и покаяние, широко распространенные в жизни западного общества, в культурах стыда по определению не предусматривались и не задумывались. По словам Александра Мещерякова, «к такому выводу мог прийти только человек, порожденный христианской культурой, которая, как известно, не склонна допускать, что у „примитивных“ языческих народов существует понятие о добре и зле — они попросту не различают их».
Российский исследователь далеко не одинок в таких суждениях и в целом в критическом восприятии «Хризантемы и меча».
Другой специалист, американский историк Дуглас Ламмис, имеющий немалый опыт жизни и работы в Японии, сравнивая книгу Бенедикт с «произведением политической литературы», и вовсе характеризует стремление автора рассматривать Страну восходящего солнца как абсолютного Другого и непостижимый объект для западного ума «ориентализмом», прибегая для этого к концепции известного литературоведа и автора одноименной книги Эдварда Саида (1935–2003).
Во всяком случае, если судить «Хризантему и меч» по одному из самых важных критериев — помогает она или препятствует пониманию японской культуры и нации — Ламмис считает данную работу глубоко ошибочной.
По мнению историка, достаточно хотя бы того, что Бенедикт, рассматривая эпоху 1930-х — первой половины 1940-х годов, фактически распространила опыт этого времени на весь период существования Японии и приняла классовую идеологию за культуру всего японского народа, считая ее, таким образом, неизменной.
Примечательно, как признается сам Ламмис, когда он впервые обнаружил «Хризантему и меч» в одном из книжных магазинов Окинавы в 1960 году, ученый был приятно удивлен после ее прочтения и даже несколько лет испорчен «магией этнографа»: ходил по Японии словно «миниатюрный Бенедикт», повсюду замечая «паттерны» и «анализируя» поведение окружающих людей. Спустя какое-то время ученый сделал для себя вывод, что никогда не сможет жить в хороших отношениях с японцами, «если не изживет из головы эту книгу и ее вежливо-высокомерный взгляд на мир».
Однако при всех своих недостатках и изъянах книга Бенедикт инициировала широкую послевоенную дискуссию о японской идентичности, а на фоне комплекса неполноценности японцев, возникшего в результате поражения Японии во Второй мировой войне, и краха прежней национальной идентичности, которая выстраивалась начиная с периода Мэйдзи, подтолкнула местных интеллектуалов, увидевших в работе американского эксперта «доказательства» существования «японского национального характера», к созданию собственных теорий в культурно-антропологическом дискурсе. При этом важно обратить внимание на исторический контекст и условия, в которых создавалось исследование и за которые уже после выхода книги в свет Бенедикт подверглась суровой критике.
Не зная языка и не посещая Японию
Во-первых, Бенедикт никогда не посещала Японию и не знала японского языка, в связи с чем у многих экспертов возникал и продолжает возникать вопрос об адекватной передаче сути японской культуры и психологического склада самих японцев. Более того, известно, что в рамках антропологии исследование Бенедикт было одним из первых, которое проводилось «на расстоянии».
Как вспоминала Маргарет Мид (1901–1978), у Бенедикт, занимавшейся на раннем этапе карьеры изучением североамериканских индейцев, «никогда не было возможности приобщиться к живой культуре, где она могла бы говорить на ее языке и хорошо узнавать людей как отдельных личностей». Как и в случае с Японией, ей «всегда приходилось работать с переводчиками и искать особенно знающего человека, который мог бы выполнять задачу сидеть и диктовать».

Во-вторых, поскольку США и Япония находились в состоянии войны, очевидно, что Бенедикт пришлось отказаться от полевых работ и личного контакта с исследуемой культурой и людьми.
В данном случае в качестве основного материала и источников выступили не эмпирические данные, а переведенные документы и дневники, научная и художественная литература о Японии, секретные военные материалы, «пропагандистские, исторические ленты, фильмы о современной жизни в Токио и о деревенской глубинке». Главными же информаторами служили американцы японского происхождения и военнопленные. Относительно этой выборки в научном сообществе также возникало немало вопросов, о чем, в частности, свидетельствует наиболее известная история с Робертом Хасима (1920–2009).
Хасима, будучи одним из ключевых осведомителей Бенедикт, родился в США, но в 1930-х годах был привезен родителями на свою историческую родину, в Японию. Завершив там обучение в школе, Хасима еще до начала Второй мировой войны вернулся в Штаты. Так, по любопытному наблюдению Дугласа Ламмиса, дважды интервьюировавшего Хасима, «для него, впервые приехавшего в Японию подростком в разгар милитаристского периода и не имевшего до этого никаких воспоминаний о стране, то, чему его учили в школе, было не „идеологией“, а самой Японией». Как полагает Ламмис, Бенедикт могла слишком довериться словам Хасима, который рассказывал о столь чуждом для него опыте жизни в Японии.
Реакция японских интеллектуалов
После публикации книги на японском языке среди местных интеллектуалов обнаружилось немало как сторонников Бенедикт, перенявших ход мысли и усвоивших подход автора, так и последовательных критиков. В числе последних значатся имена таких крупных мыслителей, как социологиня Цуруми Кадзуко (1918–2006), одна из первых, кто, ознакомившись с английской версией «Хризантемы и меча» в 1947 году, обвинила Бенедикт в карикатурном изображении Японии, этнолог Янагита Кунио (1875–1962), философ Вацудзи Тэцуро (1889–1971), психолог Минами Хироси (1914–2001), социологи Арига Кидзаэмон (1897–1979) и Кавасима Такэёси (1909–1992).
Вслед за обзором Цуруми рецензии пяти последних авторов составили специальный раздел четвертого номера научного журнала Minzokugaku Kenkyu (The Japanese Journal of Ethnology) за 1949 год, посвященного разбору недавно вышедшей книги Бенедикт.
Например, Янагита Кунио в своей рецензии, указывая на неточности и ошибки, которые допустила Бенедикт, утверждал, что имевшиеся у нее данные были иногда не только недостаточны, но и, на его взгляд, как носителя японской культуры, неправильно подобраны. То, что Бенедикт пыталась выдать за культуру и традиции, характерные якобы для всего японского народа, в действительности представляло собой наследие одного из сословий, как правило самураев.
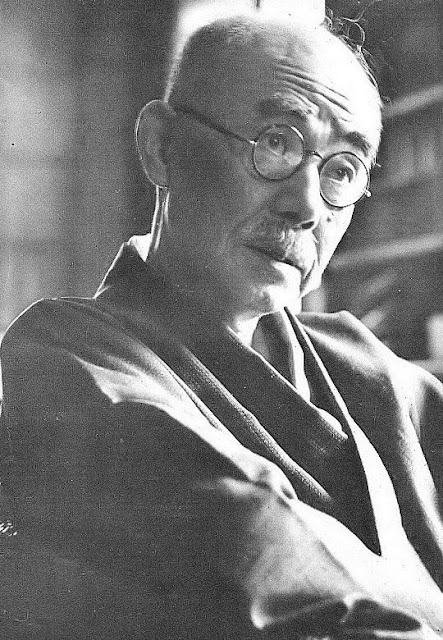
Иными словами, «бусидо», «кровная месть» и тому подобные термины, к которым прибегала Бенедикт, являлись продуктом ограниченной части японского общества, составлявшей к тому же менее 10% населения страны, объяснял Янагита.
Вацудзи Тэцуро, отказывая книге Бенедикт в какой-либо академической и научной ценности, обвинял американского антрополога в чрезмерно обобщенных выводах и стремлении познать природу целого, исходя из частных фактов.

Тот образ японской культуры и японцев, который формировался на страницах работы Бенедикт, по его мнению, основывался исключительно на некритическом восприятии милитаристской идеологии и пропагандистских лозунгов и на анализе моделей поведения и психологии солдат Второй мировой войны. Последние, с кем в большинстве случаев и сталкивались американцы в ходе боевых действий на Тихом океане, ложным образом воспринимались западными наблюдателями в качестве подлинных носителей японской культуры и системы ценностей, доказывал Вацудзи.
Отождествлять узкую группу «милитаристов» с остальной частью населения страны было крайне ошибочно и неправильно, считал философ, это лишь искажало реальное положение вещей.
Минами Хироси также видел в интерпретации Бенедикт множество изъянов и недостатков, считая «Хризантему и меч» антиисторичной.
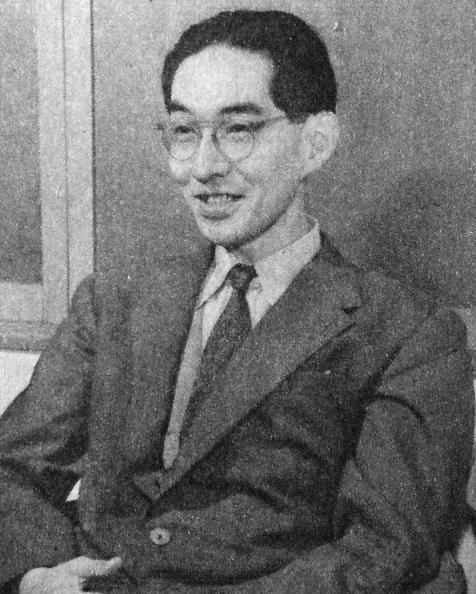
Ни литература, ни киноленты, которые использовала Бенедикт, не были тщательно отобранными образцами и подходящими примерами, адекватно репрезентировавшими состояние японской нации, уверял Минами.
«Совершенно неуместно изучать японскую культуру на основе анализа импортированных в США японских фильмов. Материалы, которые она (Бенедикт. — И. Д.) использует для анализа японской литературы и театра, также ограничены. Разумеется, что они неадекватны для объяснения сложной социальной психологии современных японцев», — заключал психолог.
Несколько лет спустя ученый и вовсе обвинил Бенедикт в подгонке исторических фактов под свою теорию.
Несмотря на то, что книга «Хризантема и меч» была встречена суровой критикой со стороны многих современников, западный академический дискурс, типичным проявлением которого и явилось исследование Рут Бенедикт, спровоцировал активную послевоенную дискуссию о японской идентичности. Бенедикт, фактически заново легализовав понятие «японский национальный характер», сыграла значительную роль в самоидентификации и поиске новых форм национальной идентичности японцев. В этом смысле «Хризантема и меч» мало кого оставила равнодушным, а во многом даже подтолкнула местных интеллектуалов к созданию собственных теорий о японцах, пик которых пришелся на 1960 — 1980-е годы. Некоторые из них, используя подход автора к изображению Японии как противоположной Западу цивилизации, выстраивали на этом основании образ уникальной и отличной по многим параметрам японской культуры, постепенно преодолевая комплекс неполноценности и негативное самоописание, возникшие после войны.
