Тишина и разнообразие письма. История и истории писательского мастерства в «Алхимии слова» Яна Парандовского
Может показаться, что книги с рекомендациями для пишущих людей появились совсем недавно. Но это не так. Например, польский эрудит, антиковед, путешественник, писатель, переводчик и гуманист Ян Парандовский к 1951 году закончил труд, начатый еще накануне Второй мировой войны, в котором с самых разных ракурсов исследовал писательское искусство и многофакторность литературного процесса (да и вообще творчества). В 2020-м в Польше вышло очередное переиздание «Алхимии слова» Парандовского. Это серьезное трехсотстраничное эссе невероятно легко читается и по-прежнему будет интересно «алхимикам», пытающимся превратить буквы в золото. И почему бы не прислушаться к человеку, который издал первую книгу незадолго до вручения аттестата зрелости и дважды был номинирован на Нобелевскую премию по литературе? Тем более что «Алхимия слова» печаталась на русском языке уже трижды.
Мотивация, побуждающая к писательству, может быть самой разной: занятия литературой, по Парандовскому, есть рефлекс самообороны от смерти, забвения, тлена, безумия или бессмыслия, выход за пределы эгокосма, преодоление себя, освобождение от безвременья и заоконной унылости.
Первостимулы литературного творчества — бегство и компенсация. Из одних и тех же первоэлементов рождаются и посредственная генеральская или дипломатическая мемуаристика, и высочайшей пробы авторские Вселенные. Первую Парандовский относит к категории «апостольской» — такой, которая написана ради фетиша национальной, религиозной или общественно-политической идеи, и не очень-то высоко ее ставит. Вторую считает подлинной литературой. Она дает писателю волю и право создавать или уничтожать планетные и звездные системы, менять ландшафты, развязывать цивилизационные войны, ваять и разрушать империи, возвеличивать и низвергать государственных мужей, чиновников и жрецов, направлять ход истории целых народов и судьбы отдельных людей. Писатель-демиург открывает острова и страны, проектирует сады, дворцы, улицы и целые города, выступает творцом существ (не всегда человеческих), которые никогда не жили, но которые живее многих реально живших и живущих. Эти высокохудожественные тексты тоже почти никогда не являются искусством ради искусства и не могут не служить определенным идеям и идеалам.
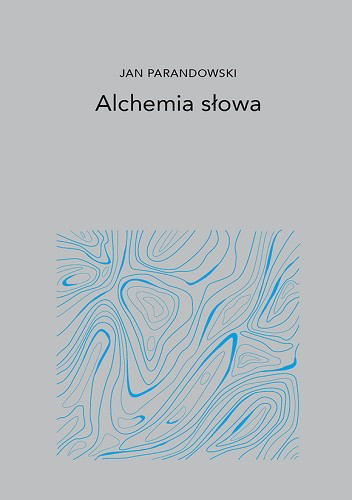
Тщеславие или соперничество, мода, жажда мести или справедливости приводили к писательству людей самых разных сословий и цехов: от императоров до солдат, от римских пап до пьяниц и преступников. И вряд ли литература была когда-то полностью свободна от зависти, интриг, махинаций и фальсификаций.
В книге описан один поразительный вид литературного пиратства шекспировских времен: некоторые театры прибегали к услугам людей с очень хорошей памятью.
Отсмотрев и отслушав у конкурентов новую удачную пьесу, эти люди воспроизводили затем по памяти ее текст и декорации, вносили некоторые изменения, делали вставки — и всё это включалось в репертуар театра-шпиона.
Классический капитализм XIX столетия, всё отравляя ядовитыми парами жажды наживы, тоже не мог пройти мимо литературы, и сюда потянулись «хищные души» издателей и «фабрикантов слов» — дельцов, учуявших запах больших и быстрых прибылей, ловкачей и авантюристов.
В дальнейшем литературу коммерциализировала до предела индустрия радио и кино. Из текста теперь пытались выжать максимум: сделать на его основе сценарий, телеспектакль или радиопостановку. Писатель, редко до этого зарабатывавший на сносную жизнь литературой, теперь мог стать очень богатым. Парадокс ситуации в том, что массовизация культуры нередко обогащала авторов низкопробной прозы, и, будучи самыми богатыми, они могли быть и самыми презираемыми среди не только коллег, но и среди читателей.
Люди не только всех на свете занятий и ремесел приходили в литературу, но и всех психотипов, характеров и темпераментов:
«Человечество сделало из литературы как бы свою палату представителей, а потому наряду с личностями исключительными в ней достаточно и спокойных, уравновешенных, благоразумных индивидов, ничем не отличающихся от большинства людей».
«Алхимия слова» — это и о писательстве как культурном феномене, и о самом процессе писания (не столько палеография, сколько эстетическая история процесса письма), но главный герой книги, безусловно, писатель. Более чем двухтысячелетний творец, алхимик, исследователь жизни и человеческих душ. Парандовский показывает, какими были и в каких условиях творили Эсхил, Овидий, Цицерон, Данте, Петрарка, Сервантес, Расин, Мицкевич, Руссо, Бальзак, Стендаль, Золя, Диккенс, Флобер, Пруст, Джейн Остин, Вульф, Жорж Санд, Гюго, Эдгар По, Толстой, Уэллс, Метерлинк, Горький (книга, конечно, европоцентрична), и дотошно разбирается, что их вдохновляло, злило, бесило, что помогало, а что делало творчество невозможным. Для одних литература была борьбой и сопротивлением, для других чудачеством или даже способом шантажа.
Классики польской и мировой литературы у Парандовского — живые люди. Они прокрастинируют, забрасывают работу на месяцы и годы или изматывают себя ею, конфликтуют с домочадцами, друзьями, кредиторами, испытывают самые разные чувства в ходе литературных занятий.
Они мелочные, малодушные, вспыльчивые, мстительные, щедрые, доблестные, хулиганствующие и легкие на обидное слово для самых близких, расчетливые и льстивые с власть имущими, благородные и презирающие чины и звания. Одни любят светские тусовки и общение с творческой братией, другие всеми способами избегают его. Одни стимулируют себя самыми разными веществами, другие держатся четкого распорядка дня, выверенного рациона и регулярных физических нагрузок. Хватает здесь и виртуозных обжор, и мало уделяющих внимания еде аскетов. Некоторые уклоняются от воинской службы и чураются любых государственных должностей, а некоторые алчут их. Кто-то из них апологет безбрачия, агитатор за половое воздержание и даже инфибуляцию, а кто-то убежденный семьянин или азартный охотник за новыми сексуальными объектами.
Эти живые человеческие практики могут способствовать творчеству, но поразительно то, что в романах затворников и старых дев клокочут фонтаны чувств, которые, ложась на бумагу у заядлых искателей любви в реальной жизни, почему-то пошло обесцвечиваются. Нечто похожее может произойти и с теми из алхимиков слова, которые отправляются за рудой впечатлений, сюжетов и типажей в долгие странствия по миру: нередко более свежие и новаторские вещи выходят из-под пера тех, кто предпочитает путешествовать вглубь самого себя.
Творческий ум разглядывает, опознает, интерпретирует незаметные грани, ноты и оттенки вещей и явлений, углубляет и расширяет примелькавшиеся мелочи, преображает их, интерполирует, экстраполирует, усложняет или упрощает потоки окружающей реальности.
Как пишет Парандовский, у хорошего писателя есть проблемы с точностью наблюдений и регистрации внешних событий, потому что в его сознании срабатывает некий «датчик», который к наблюдаемому всегда подмешивает аллюзии, ассоциации, фантазии, аффекты и мысли.
«Страсти, стремления, особенно несбывшиеся или невыявленные, мечты, сны, образы, пристрастия, опасения, стыд — всё, чем каждый человек заполняет свое одиночество, у художника становится его творческой лабораторией».
Среди писателей хватало и принципиальных апологетов оседлости, и вечных кочевников, любителей сельских пейзажей и фанатов урбанизации. И условия для литературных занятий они готовы были принять самые разные. Кому-то неплохо писалось верхом или на полу, на вокзальной скамье, в госпиталях, казармах или тюрьмах. Бесчисленное количество бессмертных строк и строф было набросано на клочках накладных и квитанций в тавернах и кафе, на папиросных пачках, носовых платках и веерах в отелях, но большинству всё же нужен был кабинет: хоть по-королевски обставленный антикварной мебелью, увешанный барельефами античных мудрецов и средневековыми гравюрами, хоть маленькая келья со столом и стулом, но главное — личное пространство для уединения и сосредоточения.
Мы никогда не узнаем, сколько шедевральных образов и сюжетов не смогли родиться из-за того, что у писателя отобрали покой и тишину. Ради них Демосфен залезал работать в погреб, а Пруст оплачивал несколько гостиничных номеров, чтобы звукоизолироваться от соседей.
Созданию пьесы или романа нередко сопутствовали воображаемая картография и генеалогия, ономастиконы никогда не существовавших людей и ведение от их лица дневников.
Самой разной бывает писательская магическая ритуалистика и камлания на удачу. Периодическая смена, к примеру, письменного стола на мольберт, пюпитр и наоборот: хорошая музыка, живопись и скульптура вызывают к жизни хорошую литературу, а разнообразные творческие занятия взаиморезонируют.
«Ни для кого не тайна, что писатели открывают прекрасное в неожиданных встречах, прочитанная чужая страница дает им постичь вещи, которых они сами, может быть, никогда бы и не разглядели».
Полезным может оказаться и низкопробное искусство, на отрицании которого не раз рождались шедевры.
В литературе никогда не прекращаются процессы диффузии, окисления, катализа, адсорбции. Политическое ораторство или историописание, бывшие когда-то самыми развитыми формами художественного слова, теперь почти утратили в себе элемент высокого стиля. В тексте могут быть токсичные примеси, и необходимая процедура — его дистилляция. Освобождать каждую фразу от шелухи и любых оберток, отфильтровывать, высушивать и концентрировать ее так, чтобы не оставалось сомнений — это не свинец и не мышьяк, но пурпур. Немало полезного можно отыскать в грудах диалектизмов и архаизмов, но здесь нужно быть настороже: всегда есть опасность принять за благородные самородки золото фальшивое.
Никогда не прекращается и процесс вызревания гомункула, даже нескольких творческих гомункулов, в головах писателей. Слабый зародыш сюжета, персонажа, едва уловимая идея, впитывая обрывки случайно выхваченных диалогов, фраз, книжных концепций, споров, снов, мечтаний, любые — и яркие, и скудные — внешние события и явления, месяцами и годами слабо или даже никак не проявляют себя.
«Писатель занимается тысячами проблем, получает мириады впечатлений, а тем временем в непроницаемых дебрях его психической жизни этот глубоко скрытый зародыш растет, питаясь таинственными соками».
Магических методов литературной работы было и есть столько, сколько жило и живет на планете писателей. В них находит верных апологетов и фетишизм — родной брат магии: особый крой одежды, цвет ее, особые обои и освещение, камешки, ракушки, музейные билеты, статуэтки хаотично наполняют рабочее пространство творца, и всё это накладывается на ничем необъяснимые фобии, чудачества, навязчивую бытовую обрядность и как-то способствует алхимии слова, как-то в ней преломляется.
Творец литературы высокой пробы одновременно ритор, стилист, поэтик, фонетик, грамматик и семантик. Не обязательно лингвист, он не может не быть исследователем языка, на котором пишет, чувствование языка и есть обладание тайным алхимическим знанием. Он драматург и режиссер грандиозного действа, ответственный за всё в нем, и он универсальный перевоплощенец, способный слиться с каждым из персонажей. Иногда и буквально требуется стать на время иным: овладеть ремеслом, погрузиться в повседневность тех, о ком хочешь писать.
Чтобы быть писателем, нужно смотреть на мир широко открытыми глазами, вдумчиво ваять и возделывать свою личность, осознанно вытесывать и конструировать собственную биографию. В свою очередь, истасканные, испускающие «зловоние банальности» метафоры и стереотипные образы возникают у человека, стереотипно мыслящего и чувствующего, то есть воспроизводящего стереотипные жизненные сценарии.
Не сегодня появились и катализирующие процесс письма дедлайны. Вдохновение — роскошь, фантом, миф, накачивающий ложной сакральностью таинство писательства, тогда как срок, закрепленный в договоре с издателем, — реальный его стимул. Подгоняемые обязательствами, писатели нередко создают лучшие свои страницы, а главное — воспитывают в себе дисциплину труда.
«Дисциплина труда вырабатывается постепенно и окончательно закрепляется в период зрелости писателя, когда он успевает убедиться, что шедевры возникают не по милости счастливого случая, а благодаря терпению и упорству. Каждое выдающееся произведение литературы замыкает собой длинную цепь преодоленных трудностей».
Парандовский не дает рецептов панацеи от творческого бесплодия или эликсира литературного бессмертия, но блестяще демонстрирует, что по самой своей природе осознанные занятия литературным творчеством предполагают не только упорство и волю, но и перманентное обновление тиглей, реторт, горнов, реактивов, заклинаний и способов добычи драгоценного слова из словесной руды. Поэтому и свою книгу он считал незаконченной: универсальных рецептов стать писателем быть не может, и каждый добывает такой рецепт только самостоятельно, самой жизнью. При этом научение через знакомство с разными техниками, конечно, тоже возможно. И даже если вы не мечтаете о Нобелевке по литературе и вообще не планируете быть писателем, «Алхимия слова» всё равно будет вам полезной: она может сделать вас более квалифицированным читателем. Ведь читать и понимать книги — тоже великое искусство.
