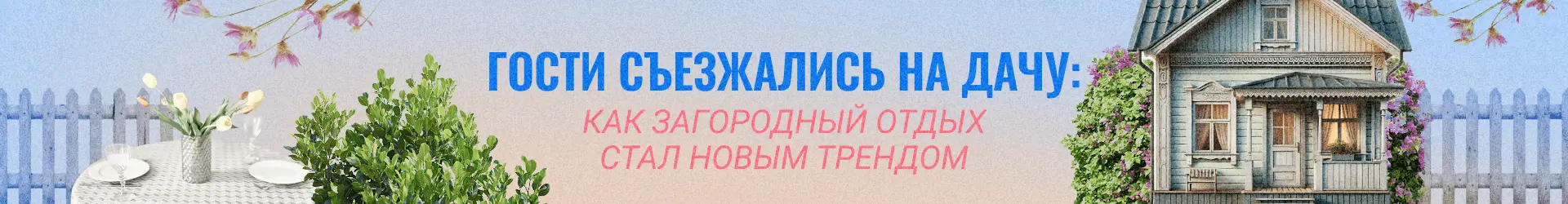«Отплытие» к «Чаю»: Бекман и (или) Матисс в пространстве Эрмитажа. Размышления о двух выставках одной картины
Почти три десятилетия назад в залах Эрмитажа встретились две картины одной эпохи — триптих Макса Бекмана «Отплытие» и картина Анри Матисса «Чай». Что мог разглядеть в их встрече внимательный зритель и что она значила для истории Эрмитажа? Рассуждает Иван Чечот.
В санкт-петербургском Издательстве имени Н.И. Новикова подготовлена к изданию книга известного петербургского искусствоведа, педагога, лектора Ивана Дмитриевича Чечота «Эпоха модерна в поисках классической традиции». В своей новой книге И.Д. Чечот сохраняет верность своему стилю, своему особому методу, соединяющему непосредственное медленное всматривание в произведения искусства с включением их в подвижный культурно-исторический контекст. Осуществить предзаказ книги и поддержать издание можно по ссылке.
В Эрмитаже в 1995 году картина Бекмана — всемирно известный триптих «Отплытие» (1932–1935), хранящийся в нью-йоркском Музее современного искусства, — была выставлена на третьем этаже, «за спиной» галереи с произведениями Пикассо, Боннара, Матисса и одновременно с картиной Матисса «Чай» из Окружного художественного музея Лос-Анджелеса.

Выставка одной картины, конечно, иллюзия. Если художественный экспонат только один, то, как бы ни были оригинальны плакат, тексты, фотопортрет художника, буклет, открытка, пресс-конференция, всё это вместе еще не создает выставки. С моей точки зрения, сущность традиционной выставки в ее теме, которая выявляется в пространстве выставки, образующемся в ряду экспонатов или произведений: выставка — это сравнение, фланкирование кульминации, многоаспектность одной темы.
Поэтому, если экспонат один и он объявлен как выставка, он превратит в выставку часть музейного пространства, постоянной музейной экспозиции. В случае с Бекманом и Матиссом, фланкировавшими галерею новых французов, в Эрмитаже состоялась особая, необъявленная выставка, тему которой еще только необходимо было выяснить.
За спиной у Бекмана была знаменитая французская галерея — кубистический Пикассо, фовистский и марокканский Матисс, «Танец» и «Музыка», «Семья» и «Красная комната» etc. — целая пинакотека шедевров красивейшей живописи.
Произведения Бекмана экспонировались в Ленинграде—Петербурге не впервые. В 1970-е годы приезжала знаменитая «Ночь» (1918–1919), в 1980-е — портрет «Кваппи в розовом» (1932–1934) (в Русский музей на выставку из собрания Тиссена-Борнемисы); не раз экспонировалась печатная графика. Но всегда Бекман был только «одним из» — экспрессионистов, графиков 1920-х годов, крупных представителей «современного искусства» или искусства, альтернативного тоталитарному режиму, как на выставке «Москва—Берлин. 1900–1950», где «Размышляющую женщину у моря» (со сферой, 1937) из бременского Кунстхалле и триптих «Аргонавты» можно было увидеть в контексте широкой культурно-исторической панорамы в одном ряду с Ф. Нуссбаумом, О. Шлеммером, Г. Ульманом, Ф. Кремером, Т. Бальзеном, а также А. Лабасом, А. Древиным, С. Некритиным, поздним Родченко, Татлиным и Малевичем как представителями искусства, полярного ретроградам Л. Циглеру и А. Герасимову.
Если на выставке в Русском музее из собрания Тиссена-Борнемисы в начале 1990-х годов можно было задать вопрос, как же на самом деле соотносится «реалистический» портрет Бекмана с абстрактным Мондрианом, Леже и сюрреалистским Дали и что у них общего, кроме так называемого высокого художественного качества, обеспечивающего высокую коллекционную стоимость, то на выставке в Эрмитаже, где произведение не растворилось ни в творчестве художника, ни в направлении и тем более исторической эпохе, а говорило только само за себя, картина Бекмана попадала в поле направлений, создаваемых основными сюжетами Эрмитажа. Первый — ось «старое искусство» во главе с Тицианом, Рубенсом и Рембрандтом и «новые французы». Второй — противоречие между «хорошей живописью», «хорошим искусством», какового в этом музее, как и во всяком другом, огромное множество, и массой ценного пестрого исторического материала. Третий — универсальный, «экуменистический» горизонт Эрмитажа, охватывающего все эпохи, культуры, религии, — его мировая тема. Четвертый — проблематика России в Европе и мире, мира и Европы в России: что им друг в друге, как они соотносятся, уживаются вместе и т. д.?
Для нашего Эрмитажа, который в 1960–80-е годы был оплотом просвещения публики в плане «современного искусства», «модернизма» или, как тогда говорили, «искусства двадцатого века», характерно (или, точнее, было характерно) утверждение единства старого, «классического искусства» и искусства новейшего, представленного в музее прежде всего именами Пикассо, Матисса, Боннара и Кандинского.
«Матисс в XX веке так же прекрасен, как Рубенс в XVII веке», — учили пропаганде модернизма. Объективно это означало оправдание новейшего искусства, в котором якобы сохраняются вечные критерии, но не в меньшей степени это означало также лишение современного искусства его вирулентности.
Старое и новейшее искусство едины в «художественном качестве», а значит, едины и в принципах. Отсюда невыделенность раннего современного искусства в Эрмитаже, где оно завершает экспозицию искусства Франции XV–XIX веков.
Несмотря на то что «третий этаж» всегда мыслился как нечто иное и особенное, как картинная галерея для более образованных, для интеллектуалов, для молодых, для художников, а не для историков, школьников и туристов из провинции, он противопоставлялся не столько всей остальной картинной галерее (таковой в Эрмитаже нет и до сих пор), сколько «дворцу», то есть смешению прикладного искусства, живописи и архитектуры, искусства, политико-патриотического воспитания и быта, что так свойственно этому музею неопределенного жанра. Но с Египтом, скифами, Востоком, с Понтормо, Тицианом, Пуссеном и прочими «третий этаж» всегда находился в каких-то более или менее глубоких — в зависимости от зрителя — и проблематических связях. И не столько галерея указывала на «третьем этаже» своих наследников, сколько новое искусство отбирало своих корреспондентов среди «стариков». Вопросы задавало именно оно, и так возникали связи Сезанн — Пуссен, Пикассо — Эль Греко, Боннар — венецианцы XVIII века и т. п. Созвучия возникали в той или иной национальной традиции, в зависимости от того, насколько она была ярко представлена в музее, или по типу творчества (экспрессивное, декоративное, гротескное), но самым сильным основанием для сближения и уравнивания в правах всегда являлись гармония, сила-свежесть, цельность как воплощение свободы, по меньшей мере — освобожденности от канонов, жанров, школ и стилей, от давления программ, а в Эрмитаже — от Эрмитажа, от дворцовости и золотистой пыли, от бремени оформления власти. Под влиянием «третьего этажа» и «старики» переставали быть историческими памятниками, открываясь в своем чистом эстетическом и человеческом измерении. В эрмитажной галерее воплощением свободы считали прежде всего представителей живописных традиций — венецианцев, фламандцев, французов. Их, если так можно сказать, эмансипационный потенциал усматривали в их интернациональности, в индивидуализме, в конечном счете — во всеобщей секулярности как религиозного, так и политического плана. В таком общем идейном контексте именно французская традиция оказывалась основной, представала как традиция секулярного одухотворенного искусства просвещенных образованных людей с индивидуальным вкусом, объединенных культом чистого искусства, основанным на диалектике начал классических (грация, ясность, структурность) и им противоположных — стихийных и игровых, иронических и лицедейских, метафорических и критических. Это был культ прекрасного искусства, всеобщих, несмотря на их индивидуальность, форм. Таким он остается и по сей день. Можно сказать, что во всем этом есть и политический момент. Свобода воплощалась в этом типе искусства как счастье (включая в это понятие и категории гармонии, комфорта и др.). Но не только: свобода рассматривалась и как возможность ярких проявлений, и как победа. Однако вместе с тем это было (и частично остается) выражением мечты о стабильной и пластичной культуре — традиции, в которой проблемы «решены и сняты».
Триптих Бекмана «Отплытие» — это «большое произведение» как по размеру и форме, так и по замыслу, по конечному, основному впечатлению и масштабу абсолютной ценности. Он задуман в виде трех мощных полотен, различных по характеру, но вместе с тем это одно целое, один «многоэтажный» аккорд — Алтарь.
Зритель оказывается лицом к лицу с загороженными пространствами внешнего мира, со сложными сценами-повествованиями, величественными и отталкивающими образами. Это алтарь «какой-то неизвестной религии, новой мифологии, которой еще только предстоит сложиться» (такова была мысль Б.И. Асварища, высказанная в частной беседе). Но этот алтарь не похож ни на окно, ни на портал, через которые лежит путь в новую веру. Пространство картин переполнено до тесноты и не впускает в себя; образы пугают и держат зрителя на расстоянии, ограничивая возможности сопереживания; цвет и фактура живописи с ее характерным сочетанием корпусности, прозрачности (жидкие слои) и цветонасыщенности создают эффект, подобный «живописи» витражей. Появляется ощущение трансцендентности живописного явления по отношению к пространству зрителя: проходящий сквозь витраж свет, воспринимающийся как внутренне присущий самому изображению, как сущность его самоцветного излучения, являясь между тем потусторонним и априорно данным.

Другой важный момент — это синтез транспарентности (прозрачности) и кристалличности (твердости и структурности). Цветное стекло прозрачно, что мы не только знаем, но и видим, однако сквозь него не проникает ничего, кроме света. Это прозрачность лишь в одном направлении; свет и цвет витража льется только вокруг храма: свет — в темноту, проявление образов — в темноту, где находится зритель. Витраж — тяжелый, это громоздкая архитектура из стекла и свинца, кристаллические красители, — всё твердое и холодное.
Похожее впечатление оставляет и триптих Бекмана. Он «смотрит» внутрь зала, в него не войдешь. Его трудно «рассматривать», не удается подстеречь и увидеть исподтишка его «объективные» свойства. Не зритель его созерцает, а триптих раскрывает на зрителя свои створки и щели: это инициатический акт, неприятный и связанный с переживанием стыда.
Произведение Бекмана не относится к религиозному искусству; по внешнему облику оно также не похоже на медитационные объекты классического модернизма. На картинах много людей, предметов, действий. Все они вызывают множество ассоциаций и еще больше вопросов. В целом изображение скорее смущает, чем привлекает зрителя. Но если любопытство всё-таки побеждает, то вскоре читающий картину заинтересуется и примирится с ее героями. Достаточно пары намеков (тема насилия, мотив мирового театра, бравурные марши 1930-х годов, подсознание, сюжет отбытия в другой мир, королевское достоинство и избранничество художника, «Ноев ковчег», всемирный потоп, средиземноморская голубизна), и вот картина уже «понятна» и «необходима», уже может восприниматься как пример неомифологического мышления и т. д. Всё это так, и могло бы быть развито подробнее (что уже сделали другие, и не раз), если бы не прямое физическое воздействие произведения, которое дискомфортно.
Тяжелые пестрые краски, черные грубые контуры фигур, их неловкие соотношения, размеры и пропорции створок, соотношение триптиха с залом (то же наблюдается и в Нью-Йорке в Музее современного искусства), — всё вызывает странное отношение к этому бесспорному шедевру: можно только заставлять себя смотреть на него, но, взглянув на ту или иную деталь, невозможно оторваться — такой силой приближения, такой живописной прелестью обладают здесь отдельные цвета, лица, контуры.
Характерно, что триптих «Отплытие», собственно говоря, не изображает никакого корабля или плота, но в нем выделяется линия борта — балюстрады, тема столбов, лестниц и досок, а также связок-жил. Отплывающим кораблем является весь триптих в целом, однако он никуда не уходит, но раскрывается в своем внутреннем устройстве, со всеми желтыми, белыми и коричневыми палубами, растущий вверх и вширь, движущийся всеми частями; этот «корабль» собран к центру, и его этос воплощается в гордом повороте спины «царя». Бесспорно, это романтическая Rückenfigur, переосмысленная как телесная скульптура с подчеркнутой раздваивающей позвоночной складкой, — символ прямой движущей реакции.
Сколько ни рассматривать триптих, сколько ни читать о нем, рассказать о нем в повествовательной форме, не впадая в банальность и высокопарную ученость, невозможно. Что в нем осознаешь, что ценишь — это особая фактура. Складчатость целого, взятого как масса разнообразного. Всё индивидуально, конкретно и различно по виду и отсылкам к тем или иным сферам. Это богатое по «содержанию», полное, перезрелое целое, которое начинает отрицать само себя и впадает в «карикатуру». Это живопись кризиса, еще способная то ли вспоминать о гармонии, то ли ее предвидеть; живопись, различная в себе самой.
Когда Макс Бекман пишет, он выводит на свет и рассматривает лица, переживает позы и жесты, имеющие определенное, но многозначное выражение. И действие картины, и сама живопись как акт, пластический и сознательный, протекают у Бекмана в сфере возвышенного, они в высшей степени «серьезны». Он действует в той области, где ставятся последние вопросы о жизни и смерти, но не имеет на них ответа, так как всё его состояние (физическое, психическое и проч.) насквозь конфликтно: он ни здесь ни там, не в потустороннем мире и не в настоящей жизни.
Живописец совсем другого типа, Анри Матисс, живя здесь и теперь, испытывая легчайшие настроения, побуждения, всегда пребывает в вечности, блаженствуя в вечном, колеблющемся бытии. От его картин веет обыденностью, поэзией будней, вечностью Каждодневного. Его «Чай» — это образ земного рая, в котором ничто не меняется и нет не только никакой борьбы, но и никаких сильных побуждений. Целое, общее, среда бесконечно сильнее всех отдельных частей, отдельных фигур. Первичен ровный всепроникающий свет, легкий, но властный ритм. Всё остальное представляет собой либо «сгущения» этого света — основной сущности, — либо спонтанное возникновение внутри этой среды очагов дискомфорта, частных диссонансов. Ровно текущая среда внезапно испытывает возмущение, происходит что-то вроде «искривления пространства». «Рай» плюс отклонения и диссонансы, «идеальное вообще» плюс «реалистические», бытовые, психологические, повествовательные, низменные моменты — такой мне представляется структура мира по Матиссу. Нужно только подчеркнуть, что сам рай не является здесь мягким и усыпляющим. Напротив, он предстает как сочетание светлоты и жесткости, и открытости, и трезвости. Существенно, что он как высокое не противостоит низкому: его основа — нечто среднее, «золотая середина» бытия, умеренность и примиренность противоречий. Поэтому он и производит впечатление классического покоя, «классики». Высшая формальная отрешенность (отрешенность работы формы от экспрессивных и драматических страстей) позволяет изображать самые тонкие, разорванные состояния, например, нервозность дам, одна из которых, вульгарно качая ногой, уронила туфлю, а также низменные, бесформенные и безвольные, бесхарактерные предметы. Классическая форма, не имеющая здесь никакого отношения к классицизму с его риторикой, жестами, позами, величием, не приводит всё к одному знаменателю — она погружает диссонирующие детали в одну сферу.
В категориях эстетики Канта различие впечатлений от произведения Бекмана и произведения Матисса можно выразить так: картина французского живописца представляет собой соединение прекрасного и низменного, а произведение немецкого художника — сочетание возвышенного и безобразного.
Обычно соотносительными и полярными понятиями выступают «прекрасное» и «безобразное», относящиеся к форме и облику вещей, и «возвышенное» и «низменное», определяющие характер моральных существ, чувств и поступков. Мне кажется, что в эстетической ситуации двойной выставки названные категории перекрещиваются и при восприятии Матисса взаимодействуют не «красота» (скажем, цвета, форм) и «безобразие» (фигур, физиономий, жестов), поскольку и то и другое здесь крайне относительно и не связано ни с каким нормированным критерием, а именно «прекрасное» — истинно прекрасное, в смысле многообразия удовольствия и стоящего за ним ясного и прочного образа мироздания, — и «низменное» как обыденное, заурядное, случайное, частное, ограниченное и т. д. Действительно, на картине Матисса изображены не боги и герои, а заурядный и очень даже «довольный собой» садик, «неинтересные» люди, столик, стульчик, чаек — какая-то мелкая дачная жизнь, поданная без прикрас, даже с некоторыми любовными акцентами на снижающих бытовых и психологических деталях, читающихся как точнейший диагноз. Несмотря на это, изображенная жизнь представлена как нечто законосообразное, изящное, природно-естественное и художественно-совершенное. Но всё это не является поверхностной идеализацией, приукрашиванием. Тактика художника сложнее. Противоречивость и комизм, мелкий масштаб и призрачность жизни не спрятаны, но и не выявлены в качестве негативных элементов, чуждых светлому мировому порядку. Эти элементы уподоблены темным прожилкам в мраморе, игре теней в листве деревьев. Вся картина является подвижным «занавесом» иллюзии, которая замещает собой так называемую реальность.
У Бекмана основной материей изображения является «возвышенное»: его жесты — взмахи линий, массы и акценты цвета — почти всегда выспренни, высокопарны; они не лишены гордого высокомерия, иногда заносчивые в своей экспрессивности. Бекман использует пышный риторический стиль и говорит только о великих и страшных, грандиозных, великолепных, чудовищных предметах, он страстно влюблен в невиданную красоту, в неслыханные заговоры, в зловещие тайны, ужасные преступления, его сфера не полуулыбка, а инфернальный хохот. Поэтому у него не встречается ничего неизменного, то есть мелкого и пошлого, но зато в избытке представлены все виды и формы безобразного и уродливого. У Матисса мы найдем невзрачных, неприглядных, неинтересных, безликих субъектов, у Бекмана — нет, только гротескных, зверообразных, гримасничающих, но зато и не найдем у него образов распада и разложения. Каждая сущность, которую он представляет, цельна, вросла в самоё себя и не способна распасться. Ее судьба — в превращении в маску, куклу, шахматную фигуру, которые являются не воспоминаниями или рефлексиями (всё скрашивающими), но безобразно грубыми метафизическими реалиями. С этой точки зрения можно сказать, что у Бекмана мы имеем абсолютное господство одного временного измерения — Praesens, настоящего времени, локализация которого, однако, остается невыясненной.
Для Канта (и Шопенгауэра, усердным читателем которого был Бекман) переживание возвышенного — это «негативное удовольствие». Как в реальности, так и на картинах «возвышенно то, что непосредственно нравится в силу своего противодействия чувственным интересам». Быстрая смена притяжения и отталкивания, тепла и холода создает то волнение, которое составляет сущность возвышенного: удовольствие, которое «порождается чувством мгновенного торможения жизненных сил и следующего за этим их прилива, таким образом вызывая растроганность, оно не игра, а серьезное занятие воображения».
Собственно говоря, возвышенное/низменное осознаются только в связи с идеями (о них), в связи с притязаниями (на них). Возвышенное можно дать только как стремление/отталкивание, поэтому оно не может содержаться ни в каких чувственных формах. Оно их «мучает», показывает как низменные, недостаточные. Попав в эту сферу, «чувственные формы» (включая самого человека как тело, стремящееся к наслаждению свободой) уже никогда не «освободятся», не обретут себя на свободе.
Задумаемся еще раз, о чем говорило это сопоставление Матисса и Бекмана в Эрмитаже в 1995 году — сопоставление, в котором многие отдавали «эстетическое», а может быть, и «политическое», предпочтение Матиссу. Французский художник — воплощение свободы, то есть изгнания возвышенного и проблематичного вообще. Это символ начала, за которым всё материальное и всё страдательное рисуется в виде прекрасных воспоминаний, в виде образов. Вместе с тем это свобода как полное одухотворение материи и переход в мир чисто материальных отношений прекрасного с прекрасным.
Совершенно другая диалектика свободы (и вместе с тем искусства) является нам с Бекманом. Эмансипационная иллюзия осознана у него как иллюзия. Отплытие не освобождает. Свобода не дана даже негативно. Нельзя ни уплыть из мира, ни переплыть в другой мир. Горизонт неизбывен, власть и насилие субстанциальны, род и «семья» (связки, склейки, скобки) пронизывают собой бытие, история, едва кончившись, начинается снова.
Попав в Эрмитаж, триптих Бекмана не только оттенил особенности французского (фовистского, кубистического) пути в искусстве, но и, войдя в соприкосновение с этим универсальным и разношерстным музеем, обнаружил некоторые сходные с ним черты, например, разноголосицу как признак широкого мира культур, религий и народов, разноголосицу (не только аккуратное «структурное» многоголосие, многоязычие!) как сущность культуры, несводимость ее ни к единому «тексту», ни к «механизмам». Находясь в Эрмитаже, триптих бросался в глаза как образец не-декоративного (ничего не декорирующего) и в то же время варварски декоративного, ярко, мрачно праздничного искусства. Это заставляло задуматься и о природе окружающего нас российского художественного ландшафта, исторического и современного. В нем в разное время наблюдались периоды тяги к изящному и счастливому, воцарялась уверенность в их возможности по причинам религиозным или по другим, нередко социально-политическим. В светлую рассудительность, изящную разумность верят. Однако для этого прежде всего необходимо верить в нравственное значение формальности и носить ее в себе как гарантию защищенности от внешних и внутренних врагов. Но в России горизонт постоянно обложен «содержанием», заставлен вопросами без ответа, а доверчивая тяга к изящному и счастливому оборачивается эйфорией, упованием на спасительность пустоты, чистоты, простоты или еще какого-нибудь другого вида «безвесия» (Малевич), открывающего пространство прекрасного забытья. Забыться и грезить — не в этой ли установке лежат некоторые истоки и нашей любви к классицизму, и популярности французского импрессионистического искусства, и расцвета лирического пейзажа в русской живописи XIX–XX веков, и еще многого другого?
Бекман — прямая противоположность искусству забытья. Его наиболее убедительная способность — создавать эффект присутствия, населять картину существами мифологически суверенными, бессмертными.
Они являются «идеями» или, точнее, аллегориями, но одновременно ходячими, конкретными людьми и вещами. Поэтому они неустранимы, недисциплинируемы, не могут быть отменены как пустые, устаревшие знаки. В том-то и дело, что они пустые, но полны своей взрывной пустотой и не уходят с горизонта. Если они его «освободят», то он потеряет сам себя, свою способность охватить целое.
В 1924 году Вильгельм Фрэнгер в интерпретации бекмановского «Сна» подчеркивал моралистическую складку таланта художника, выражающуюся в характере его формы, «вяжущей химеру». Дальнейший путь художника слабо подтверждает этот вывод. В триптихе «Отплытие» нет суда и вообще противопоставлений. Морализм (если он и течет в жилах Бекмана) не согласуется со свободой, так как для него мир — это сцена борьбы добра и зла, а также материал для обработки. Однако этот морализм сочетается у Бекмана с императивом реальности (истинности): он не может не замечать чудовищ, да он и постоянно нуждается в них. Всё это имеет значение для понимания Бекмана в современной России. Его тяжелое, мифотворческое искусство следовало бы отвергнуть как устарелое и даже вредное, так как оно несовременно патетично, маниакально, неприлично исповедально и, самое главное, основано на грузном понимании судьбы и индивида в их взаимосвязи. Это искусство несвободы? Давящее тоталитарное искусство, не признающее частного человека с его «низменностью»? Пожалуй, не без этого, и в России эти стороны творчества Бекмана (на фоне других, эйфорических традиций) хорошо ощутимы. Всё-таки чувствуется, что Бекман был художником, увлеченно читавшим Достоевского и через него (и не только) зараженным духом мучительного мышления — борьбы за истину и с истиной. Однако ни Достоевского, ни Бекмана нельзя отлучить от свободы. Последнюю ведь совсем не обязательно понимать как комфортность и гармонию, вообще как достижимое (измеримое в юридических терминах) стабильное состояние. «Возвышенное» понимание свободы не совместимо ни с ровностью, ни с равенством, ни с постоянством. Оно скорее ближе к категории благородства самосознания, которое включает в себя элемент гибельности и веры, элемент трагики и догадки о загадке бытия. Произведения Бекмана — это свободные проявления бытия в его загадочной полноте и противоречивости, свободные без стилизации под освобожденность, без победы; в его произведениях, в их стиле без стиля, в том, какое состояние мира и сознания он актуализировал своей живописью, дано указание на свободу (произвол, нефиксированность) в смысле другого замысла о мире — мире, который существует не для нас, но быть причастным к которому поэтому тем более благородно и возвышенно.