No lives matter. Как порнорасчлененка XVIII века стала зеркалом республиканской политики и рационалистической философии
Немало философов в XX веке писали о творчестве маркиза де Сада, хотя тот вовсе не был выдающимся писателем. В своей зубодробительной порнографии двухсотлетней давности он, как ни странно, поставил вполне современные вопросы: например, почему свобода идет рука об руку с террором и чем подкрепляется мораль, если любой авторитет условен? Алиса Загрядская — о том, как узник Бастилии выворачивал наизнанку принципы и классической, и современной культуры.
Сочинения Донасьена Альфонса Франсуа де Сада трудно назвать качественной литературой. Его мир условен, пространства герметичны, как тюремные камеры, и служат лишь декорациями для совокуплений. Герои застыли в невесомости, лишенные «развития», «неоднозначности» и других традиционных добродетелей «большой литературы». Ходы клишированы, сюжеты полны самоповторов. Де Сад был равнодушен к стилистике и средствам художественной выразительности — или же создал собственный язык, отвергающий предшествующую традицию, как считал философ-семиотик Ролан Барт.
Тексты маркиза не слишком хороши и в качестве порнографии. Они не только чрезмерно жестоки, но и парадоксальным образом невыразительны, неэротичны — притом что, казалось бы, воспевают сладострастие. Сексуальные акты монотонны, действие лишено волнующего саспенса и фигур умолчания: сцена освещена, как прозекторская.
Если бы этим все исчерпывалось, де Сад был бы просто одиозным графоманом. Однако его текст одновременно порнографичен и литературен, причем оба этих свойства невозможны друг без друга. Описание преступлений потребовало от него «преступлений против бумаги» — плохого письма, которое поставило вопрос об основаниях письма как такового. Внимание к де Саду привлекает совпадение его метода и философского посыла. Де Сад «ненормален», но именно маргинальные явления показывают скрытые механизмы речи и швы культурного полотна.
Не зря в ХХ веке, на фоне пересмотра классической рациональности, к текстам мятежного узника обратились известные исследователи: Мишель Фуко, Альбер Камю, Жорж Батай, Симона де Бовуар и многие другие. Его реальность стала новоевропейским полем экспериментов. Философия маркиза де Сада обращает наше внимание на связь слова и тела, текста и секса. Эти проблемы находятся в ведении наук этики и эстетики, изучающих нравственность и чувственное восприятие соответственно, — с помощью их критического аппарата мы и попробуем взглянуть на творчество де Сада. Как говорят герои маркиза сразу после оргии: «Сядем же и порассуждаем».

Этика де Сада
Правила жизни либертена
Что можно сказать о моральных принципах автора, который прославился нигилистическими описаниями непристойностей? Герои де Сада, профессиональные развратники, ниспровергают все возможные нормы. Кроме разврата, его либертены склонны к обману, воровству, грабежам, практикуют насилие, пытки и убийства. Один из персонажей блаженствует, когда в оргии, где участвуют его замужняя дочь и облатка, ему удается «соединить инцест, адюльтер, содомию и святотатство», — грехи собраны с тщательностью коллекционера.
Однако для такого упорства в беззаконии требуются принципиальность и дисциплина. Символично, что местом действия часто становится монастырь или специально обустроенная «обитель зла»: герои удаляются от мира, чтобы предаваться аскезе разврата. На поверку последовательное преступление оказывается не таким уж простым делом: оно требует следовать довольно жестким моральным установкам. Именно следование принципам, а не склонность к флагелляции, делает персонажа либертеном.
Итак, первое правило — борьба с эмоциями и страстями.
Юную героиню романа «Жюльетта, или Успехи порока» более опытная развратница упрекает в излишней увлеченности: та совершает преступления только в порыве, тогда как подлинную ценность они обретают, когда творятся с холодным сердцем. Так остервенение страсти оборачивается суровым расчетом, эгоизм — выходом за пределы эго.
Страсть становится силой, когда отражается в зеркале разума (зеркало — еще один символичный для десадовских текстов образ).
Победа над эмоциями равна для распутника победе над природой. В отличие от Жан-Жака Руссо, де Сад полагает, что против натуры можно и нужно бунтовать. Например, его герои долго разговаривают о том, «как замечательно обхитрить размножение, которое дураки именуют законом Природы».
Комментаторы сочинений де Сада часто упоминают античных стоиков: «Своеобразный стоицизм порока проливает некоторый свет на это дно бунта» (Камю); «Гедонизм кончается безразличием, что подтверждает парадоксальную связь садизма со стоицизмом» (Бовуар). Казалось бы, что общего между сдержанностью стоиков и поведением либертена? Однако в готовности быть таким же беспощадным к себе, как и к другим, субъект де Сада ближе к стоикам, чем к эпикурейцам, учившим избегать мучений. Отказом от аффектов либертен продолжает стоические принципы сдержанности.
Другое важное правило этики либертинажа сформулировано в слогане фильма Ларса фон Триера «Нимфоманка»: «Забудь о любви». Картина представляет собой рефлексию о маркизе де Саде не только по содержанию, но и по композиции, в которой сексуальные сцены чередуются с беседами. Во имя вседозволенности следует владеть собой, не впадая в романтические страсти. Неофитке из десадовской «Философии в будуаре» советуют ни в коем случае не заводить любовника, а вместо этого платить мужчинам за сексуальные услуги: «Любить других нужно только эгоистически, а любить их ради них самих — это просто глупость».
Третье правило — экзистенциальная позиция полного одиночества. Отказ от чувств знаменует упразднение субъект-субъектных отношений — теперь в этом уравнении должен остаться только один субъект. В авангардной кинобиографии «Маркиз» (режиссер Анри Ксоннё) узник Бастилии беседует с собственным фаллосом, заключенным в миниатюрную театральную сцену: метафора того, что Альбер Камю определил как «замкнутую тотальность» садизма.
В некоторых произведениях де Сада между либертенами существует своеобразный пакт о ненападении, который не распространяется, однако, на жертв: «Волк волка не сожрёт. Друзья мои, не страшитесь меня: быть может, я заставлю вас делать зло, но вам я не причиню никакого» («Философия в будуаре»). Впрочем, в других текстах они «едят» и друг дружку — восстание против Другого должно быть абсолютным.
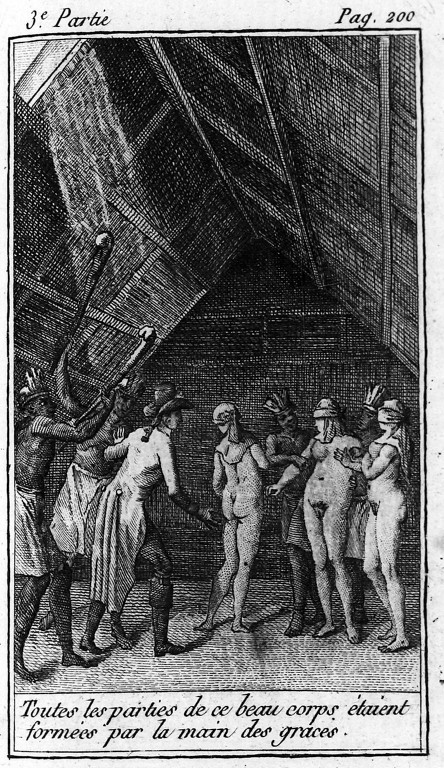
Что лежит за пределом
Наградой либертена за следование перечисленным нами правилам становится абсолютное самоосуществление в действии, и чем это действие радикальнее, тем лучше. Так совершается переход от сексуального сладострастия к собственно садизму — наслаждению от жестокости. И то, и другое имеет цель в самом себе, ни за чем не нужно; согласно философу Жоржу Батаю, это «непродуктивная трата». В вопиющей бесполезности разврата Батай видит преодоление де Садом культа рациональности. Суверенный человек действует без расчета на выгоду, не останавливаясь даже перед саморазрушением: «Жизнь достигает наивысшей степени интенсивности в чудовищном отрицании своей же основы» (Батай).
Главный предмет ненависти героев де Сада — Бог, который для традиционного общества был гарантом нравственности и любви. «Де Сад по природе был абсолютно не религиозен. В нем нет ни малейшего метафизического беспокойства», — утверждала Симона де Бовуар. Позволим себе не согласиться и, вслед за Пьером Клоссовски, предположить, что богоборчество здесь — это своего рода негативная сакральность. Скрытое беспокойство склонно проявлять себя в оговорках. Де Сад часто использует богохульство для метафорического изображения сексуальных действий — «воскурил фимиам прелестям», «припал к пышному алтарю сладострастия».
«Одно из любимейших моих удовольствий — проклинать Бога, когда у меня стоит, тогда я возбуждаюсь в тысячу раз сильнее и полнюсь ненавистью и презрением к этой фикции», — заявляет либертен.
Однако в момент экстаза он взывает к Богу, проклиная то его злобу, то его отсутствие.
Согласно Платону, физическая любовь стремящихся друг к другу «половин» по мере восхождения Эроса к высшим сферам становится слиянием с божественным. Либертинаж, отрицая всякое партнерство, отрицает и саму возможность такого слияния. При этом одиночество либертена требует выхода из монады тела — так возникает необходимость хлыста. Насилие — единственный эрзац близости. Прикосновение к Другому (к Богу и человеку) может реализоваться только через отрицание этого Другого. Движение Эроса обращается бесплодным разрешением в ничто.
Здесь находится трансгрессивный миг приближения к предельности, который вновь ускользает после кульминации. Поэтому принцип действия либертена — постоянное движение. Это своего рода переигрывание куртуазной любви, где рыцарь вечно преодолевает преграды, но никогда не получает даму. Либертен же, получив даму, тут же кидается к новому «пышному алтарю». Предел нарастающей интенсивности может положить только смерть.
«Природа хочет, чтобы ты поклялась, что будешь наслаждаться мужчинами, пока хватит сил».
Маркиз де Сад, «Жюльетта, или Успехи порока»
Террор и свобода
Сидя в тюрьме, де Сад наблюдал из окна за бесперебойной работой гильотины во время кульминации Великой французской революции. Этот enfant terrible от литературы восставал против смертной казни — его волновало запретное убийство, а не узаконенное. Разочарование в революции де Сад выразил в литературном нагнетании страстей. Республика отразила его фантазии, как в кривом зеркале. В ответ он создал еще более искаженное отражение — уже самой Республики.
Де Сад был чувствителен к развернувшейся во Франции политико-теологической драме. Стоило рухнуть иерархии, в которой земной престол восходил к небесному, как возник вопрос о гаранте права.
С точки зрения де Сада, если божественного источника морали не существует, со всяким Другим неизбежно устанавливаются отношения силы.
Суверенность народа в любой момент может обернуться террором, поскольку «светский гуманизм» — понятие, опирающееся на пустоту. Убийство короля не просто создает прецедент, а запускает переформатирование реальности по принципу насилия. Однажды допущенное зло становится всеобщим законом.
У Пьера Клоссовски де Сад предстает как своего рода моралист, которому не дает покоя сама онтологическая возможность зла. А если зло принципиально возможно, то оно не имеет четких границ, и задача честного человека в том, чтобы изобличить его, доведя до максимума.
«Нация, которая начинает управляться как республика, будет способна поддерживать себя лишь с помощью добродетелей; но нация уже старая и разложившаяся, которая отважно сбросит с себя иго монархического правления, чтобы воспринять правление республиканское, будет поддерживаться лишь посредством бесчисленных преступлений», — писал де Сад.
Свой манифест Республики маркиз изложил в «Философии в будуаре», где обучение девицы тонкостям разврата внезапно переходит в политический опус: «Французы, еще одно усилие, если вы хотите быть республиканцами». (Такое смешение стилей — еще одна форма насилия де Сада, на этот раз над литературой; в этом его можно назвать предтечей постмодернизма.) В манифесте описывается государство тотального освобождения, где заблуждения морали и религии развеяны — и тут же обнаруживаются противоречия, которые порождает взаимодействие суверенных воль. Например, реформаторский проект не порицает изнасилований. «Следует признать, что невозможно установить столько законов, сколько существует людей», — прозорливо отмечает де Сад.
«Сей документ доказывает революционерам, что их республика основывается на убийстве короля, помазанника божьего, и что гильотинировав Бога 21 января 1793 года, они тем самым лишили себя права на преследование злодейства и на цензуру преступных инстинктов», — писал Альбер Камю.
Маркиз не то с мстительной радостью, не то с горечью констатирует: свобода не ведет к морали и добродетели. Зло существует благодаря свободе.
Ничто не гарантирует неприкосновенности, поскольку в основе человеческого мира лежит террор. Потому-то де Сад максимально далек от современного садомазохизма, от всякой ролевой игры, в которой изначально равные (в силу веры в объективность прав человека и ценность личности) люди превращаются на время в «нижних» и «верхних». Девиз его республики принудительной свободы: No Lives Matter.
Эстетика де Сада
Телесность либертена и жертвы
Тексты де Сада формируют особую чувственную реальность, которая, как и его этическая вселенная, действует по собственным законам. (Чувственность здесь — не эротичность, а термин эстетики, обозначающий восприятие посредством органов чувств.) Ее составляют тела либертена и жертвы, сексуальные практики, а также принципы соотнесения действия и речи.
Де Сад довел до совершенства материалистическое представление о человеке-машине, сделав физическое воздействие настолько самодовлеющим, что оно уже не нуждается в каком-либо объяснении. Возникает парадоксальный концепт — механизм, который ничему не служит, машина траты. Именно так выглядит непрерывно говорящий и эякулирующий либертен. Десадовскую феноменологию можно было бы определить через слоган «Назад, к телам!». В соответствии с ней события больше не раздваиваются на факт и его объяснение, на видимое и скрытый смысл. Герои предваряют каждое свое движение длинным объяснением, а затем комментируют его на ходу: действие словно дублируется закадровым текстом.
«Давайте, выжимайте из меня все соки! Я умираю от наслаждения... Довольно... Вот и все... А теперь отдохнем и немножко побеседуем, — заговорила она. — Важно не только испытывать острые ощущения, но и уметь анализировать их».
Маркиз де Сад, «Жюльетта»
Раздевание, переход из одного режима в другой, происходит моментально. Речь не о страстном срывании одежды, что является эротическим кодом, а о своего рода обнулении лишнего элемента. Почти нет и фетишистского полуобнажения.
Антиэротизм де Сада связан с отсутствием фигуры умолчания, зазора между желанием и действием. Любой недосказанности объявляется война. Например, де Сад скрупулезно протоколирует форму и размеры половых органов.
Той же цели служат зеркала, важный элемент оптики Нового времени.
Эжени. О Боже! Какой восхитительный альков! Но почему так много зеркал?
Г-жа де Сент-Анж. Они на тысячу ладов повторяют позы и движения любовников и бесконечно умножают наслаждения для тех, кто располагается на этой оттоманке. Таким образом, всё становится на виду, и ни одна часть тела не может быть скрыта.
Маркиз де Сад, «Философия в будуаре»
Зеркальное умножение превращает даже парное действие в групповое; комната с зеркалами становится фабрикой сексуального производства. Слаженность работы конгломерата машин доходит до максимума в массовых оргиях, которые организуются по строгим математическим принципам. Каждый из персонажей последовательно пробует на себе весь ассортимент позиций и ролей.
Описывая внешность героев, де Сад всем раздает одинаковые эпитеты в превосходной степени: все ягодицы «прекраснейшие в мире», у всех «груди, которых не видывал свет» («Ах! какое прекрасное тело!.. Это сама Венера, украшенная Грациями!»). Уродство тоже воспевается — как более острое блюдо для утонченных ценителей:
«Красота и свежесть поражают только в простом смысле, уродство и деградация гораздо более сильное потрясение — и результат бывает живым и активным. Поэтому не надо удивляться, что многие мужчины выбирают для наслаждения женщину старую и безобразную, а не свежую и красивую».
Маркиз де Сад, «120 дней Содома»
Либертены и жертвы разнятся не внешностью («прекраснейшими» могут оказаться и те, и другие), и не характером сексуальных действий (содомизируют и отхлестают в итоге всех), а по типу их вовлеченности в эти действия.
Либертен не позволит себе совершать хаотичные действия, отдавать кому-то предпочтение или оставаться зрителем. Если он упорствует, отказываясь от чего-то, то только в пользу более извращенных практик. Даже принимая порку, он никогда не растворяется в боли, продолжая отдавать указания. Почти все суверенные герои де Сада — универсалы, и если они поначалу имеют особые предпочтения, то в результате приходят к тому, что любые удовольствия служат расширению их сексуальной экспансии. Либертен следует принципу «сказано — сделано», и наоборот. Он может дрейфовать между состояниями слова и дела, проводя одно через другое.
Телесное поведение жертвы, в свою очередь, не совпадает с волей, жертва не участвует в ситуации в полной мере. Неучастие в празднике либертинажа делает ее обслуживающим персоналом или, того хуже, предметом. Она произносит мольбы и фразы о добродетели — в отличие от либертена, который управляет дискурсивными практиками, словесно дублируя сексуальные события. Единственная возможность для жертвы перейти в другой класс — это выразить готовность ни перед чем не останавливаться, приняв ту же аскетическую жестокость наслаждения, что и либертены.
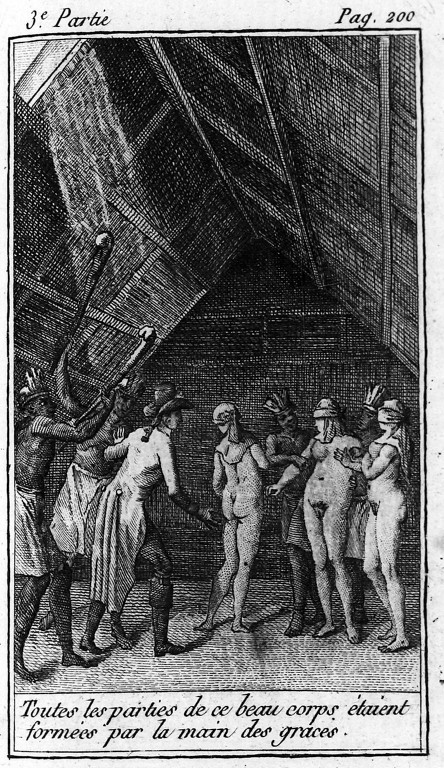
Ироничность садизма
Маркиза де Сада регулярно описывают как «ужасного» и «возмутительного», реже обращая внимание на комедийность его текстов. Хотя именно в проторомантической иронии видны проблески его литературного таланта. Препарируя рациональность, он отражает разложение идеалов классической эпохи, обнуляя самого себя. Шизофреническая логичность обличает шизофренический потенциал логики. То, до какого комизма доходит де Сад, соединяя тела, словно части конструктора и приводя списки участников, позволяет считать его сочинения критикой механицизма.
Еще один источник иронии — поучительная форма, восходящая к античной дидактике, куртуазным руководствам Ренессанса и нравоучительным сочинениям Просвещения. Школа порока — часть общего для классической культуры тропа «науки любви», который гиперболизируется, когда наставник (агент закона) менторским тоном поучает, как правильно творить беззакония.
Дольмансе. Расслабьтесь, Эжени, откройте все ваши чувства наслаждению. Пусть оно будет единственной целью, единственным божеством вашей жизни, именно этому божеству обязана всё принести в жертву девушка.
Эжени. Я как мертвая, совершенно измождена... Но, пожалуйста, объясните мне значение слов, которые вы произносили, а я не понимала.
Маркиз де Сад, «Философия в будуаре»
Ироничны и социально-реформаторские мотивы, навеянные республиканцами. Название «Общества друзей преступления» из «Жюльетты» наводит на мысли о членских взносах и выговорах за невыполнение задач. Гротеск и театральность достигают предела в «120 днях Содома», где изображено деспотическое мини-государство, и за обучение жертв берутся уже профессиональные группы экзаменаторов. Либертены, строго насаждая порок, напоминают «политбюро разврата» (Камю). Общества вольнодумцев вроде Клуба адского пламени были весьма распространенным явлением той эпохи, а феномен либертинажа вовсе не сводится к одному де Саду. Однако именно он снова доводит все тенденции до предела, не давая забыть, что многие социал-утописты считали важным пунктом политической повестки обобществление мужчин и женщин.
Ирония и карнавально-смеховое начало не позволяют забыть, что литературная жестокость де Сада — это гипербола, театр. Условные умопостроения характерны для его барочных предшественников, не стремившихся к естевенности. Сам текст не дает сочувствовать одномерным персонажам, чья основная функция — картинно страдать. В то же время этот выдуманный мир в каком-то смысле реальнее реальности: в нем нет лакун смыслов, дрожания теней по краям зрения.
Действия и знаки
Мишель Фуко определяет маркиза де Сада как современника прихода эпистемы, открывающей наше время, когда слова оторвались от вещей. Однако де Сад еще способен целостно «представлять», именуя «без остатка»: он сохраняет равновесие между сексуальными и дискурсивными практиками. Распутник может, «подчиняясь всем прихотям желания и его неистовствам, осветить все его малейшие движения светом ясного и сознательно используемого представления» (Фуко). С этим и связана двоичность происходящего: то, как сцены разврата чередуются с монологами.
«Мы назовем лирическим тело, насыщенное знаками, которое всеми своими изменениями, движениями, выражениями свидетельствует, заявляет и одновременно скрывает свидетельства о фигурах речи и энергиях, при помощи которых текст инсценирует состояние любви и любовные отношения. Лишенное этой лирической ауры, садовское тело не скрывается и не выставляет себя напоказ. Оно показано так, как изображаются тела на анатомических рисунках: холодно и точно. Лишенное знаков, избавленное от симптомов, садовское тело заставляет умолкнуть классическое повествование, которое обусловливается множеством значений, выражаемых телами персонажей».
Марсель Энафф. «Маркиз де Сад: Изобретение тела либертена»
Если современные философы ставят вопрос о том, «чего не может выразить значение» (и не находят подходящего способа для ответа, впадая в то, что Ханс-Георг Гадамер назвал Sprachnot, «нехваткой языка»), то для де Сада такого вопроса нет, его параллелизм ничем не замутнен. Всякое представление тут же приобретает форму действия, а действие автоматически получает трактовку.
Когда расширится темная бездна между желанием и воплощением (этот разрыв позволил психоаналитику Жаку Лакану сказать, что «сексуальных отношений не существует»), такая незамутненность будет уже невозможна.
С этим связана относительная неудача попыток изобразить де Сада в современности, как это сделал, например, писатель Джереми Рид («Когда опускается хлыст. Роман о маркизе де Саде»). Дело не только в том, что сегодня десадовская жестокость, обусловленная его временем, запредельна, а непристойность, напротив, почти обыденна, но в способе письма и мышления. В XX веке маркиз попадает в орбиту ярких фигур вроде Алистера Кроули и заводит отношения с «лирическими» телами. Десадовская буквальная равновесность событий и знаков замещается у Рида психологичным, метафорическим, сюрреалистическим текстом, более уместным для романов про Лотреамона или Антонена Арто.
По словам философа Михаила Рыклина, противопоставить что-то де Саду, создать его убедительную интерпретацию мог бы только текст еще более гиперреальный, со своим порядком симулякров. Можно предположить, что только колеблющийся между классикой и современностью текст мог бы устроить де Саду порку и препарирование, какие тот провел разом и для классической, и для постклассической традиции.
