Платон и новые основы справедливости. Интервью с историком философии Дмитрием Бугаем — о том, как читать величайшего философа Античности
Дмитрий Владимирович Бугай (р. 1974) — доктор философских наук, профессор кафедры истории зарубежной философии философского факультета МГУ и кафедры классической филологии ИВКА РГГУ. Закончил философский факультет МГУ, там же защитил кандидатскую диссертацию «Прокл Диадох как комментатор Платона» и докторскую «Платоновская концепция справедливости и ее исторические истоки». Автор более 40 научных статей, монографии «Единство платоновского „Государства“», переводов древнегреческих философов (Плотин, Порфирий, Прокл). Ведет с коллегами посвященный античной философии и словесности телеграм-канал Renovatio, на который мы вам всячески рекомендуем подписаться. Станислав Наранович побеседовал с Дмитрием Владимировичем о его юности и студенческих годах, научно-творческом пути и проблемах изучения Платона. Вскоре после этого интервью собеседники провели еще один разговор, в котором получили продолжение поднятые ранее темы, — можете послушать аудиозапись.
Содержание
- Юные годы
- Студенческая скамья
- Изучение древнегреческого
- Преподавание греческого и латыни в классической гимназии
- Неоплатоники и Прокл
- Начало работы над докторской. Справедливость Зевса
- Девелопменталистский подход к Платону
- Унитаристский подход к Платону
- Задачи платоновского «Государства»
- Проблемы истории античной философии в России
- Античная философия и практики себя
— Поскольку философия имеет непосредственное отношение к чтению, давай начнем с твоего первого читательского опыта — необязательно, впрочем, связанного с философией. Каким ты помнишь свое становление читателем?
— Этот опыт, с одной стороны, был совершенно банальным, а с другой — до смешного судьбоносным, потому что от дедушки, помимо всего прочего, разных дореволюционных книжек, мне достался Кун тридцатых годов — такая синенькая потрепанная книга, которая почему-то пахла овсяным печеньем. Я не подтягиваю первое детское впечатление к биографии, так уж сложилось, что это первое, что я помню из книг, а не Маршака или какие-то другие детские книжки (их я тоже помню, но это было потом).
Я не помню, как меня учили читать. Но помню, что каким-то летом, мне было четыре или пять, в дождь или грозу я читаю этого самого Куна с потрепанными выпадающими страницами, пропитанными запахом овсяного печенья. Как потом рассказывала мама, года полтора меня нельзя было оторвать от этой книжки. Она с этим боролась и педагогически меня дисциплинировала, отбирая и пряча книгу.
Я помню оттуда все эти очень страшные и захватывающие циклы — подвиги Геракла, фиванский цикл. Не всегда помню сюжет, но помню картинки, которые были там неплохо сделаны по вазам. Затем пошло обычное детское чтение.
— А как тебе «Сказочная древность Эллады» Зелинского?
— Она мне попалась слишком поздно, уже в рамках более взрослого чтения. Я люблю Зелинского, но это было совсем другое, не как Кун, который стал фундаментальным психологическим переживанием — как говорит Хайдеггер, истоком, и я этого не могу забыть. А Зелинского я читал уже в 16–17 лет.
— То есть Античностью как читатель ты увлекся с самого детства.
— Да, это первый читательский опыт. Тем не менее у меня не было в детстве какого-то особого интереса именно к Античности. Был некоторый интерес к древнему миру, потому что меня в пятом классе отправили в Школу юного историка в МГУ. Там даже какая-то латынь была, и мне тогда купили только-только вышедший (1985), пахнущий типографской краской учебник Мирошенковой и Федорова, и я даже прочитал с каким-то аспирантом истфака первые уроки, где были тексты про de ferriviis — это я тоже помню. Но фундаментально это не отразилось на интересе.
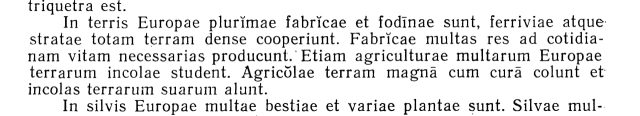
Следующая волна интереса — уже в конце восьмидесятых, Перестройка, религиозные поиски и тогда же — Платон. Опять-таки, в виде конкретной книги, как и с Куном. В классе шестом или седьмом друзья-одноклассники подарили мне новое издание Куна. Я его не смог читать! Очень был привязан к своему старому Куну. И точно так же я был привязан к первому Платону, который мне попался.
В Школе юного историка я подружился с мальчиком из диссидентской православной среды. Мальчик этот сейчас многим известен — это покойный отец Даниил Сысоев. И тот Платон, которого я впервые прочел, был из библиотеки его отца, священника Алексея Сысоева. Это был однотомный Платон под редакцией Асмуса издательства «Искусство». Он тоже был очень симпатичный, с предисловием Асмуса, но я его не читал, оно было слишком совковое для меня тогда.
Но я помню, как читал «Федона», и меня поразила не вся эта великолепная патетика в начале и конце диалога, а рассуждения, связанные с бессмертием души. Я забыл дома ключи, бабушки не было дома, и я сижу на подоконнике на лестничной клетке, читаю эти четыре доказательства и пытаюсь врубиться в них, понять, как рассуждает Платон. Это стало важным событием. Мне было 15-16 лет, и этот мир со мной заговорил. Опять-таки, выражаясь хайдеггерианским языком, это был зов.
Семья хотела, чтобы я поступал на истфак. Однако я принял свое решение. Может быть, в силу Перестройки, может, в силу того, что тогда начали издавать философов, прежде всего русских (к тому моменту я уже прошел через Соловьева и Флоренского, благодаря которым был подогрет мой интерес к Платону), я выбрал философский факультет. И я пришел туда заниматься именно античной философией.
— Как ты поступил на философский факультет?
— Первый раз в 1991 году я не поступил. Получил четверку по сочинению, пять по истории и тройку за английский. Это был мощный удар по самооценке. Через год я отыгрался, поступив в РГГУ и в МГУ, и выбрал Московский университет.
— Какими у тебя были первые студенческие годы?
— У меня странная студенческая история. В каком-то смысле на философском факультете я нормально отучился только первый курс, самый важный, или чуть больше, пока у нас шла логика и история зарубежной философии. Логику вел покойный Вячеслав Александрович Бочаров. Это был человек, который из логических лекций делал эстетическое зрелище — не в том смысле, что как-то необыкновенно жестикулировал, нет, он просто ходил курил по аудитории, тогда это было возможно. Его лекции не были каким-то серым, монотонным рассказом. Они были эстетически замкнуты, совершенны.
В 1991 году мы познакомились с Дмитрием Ткачевым, который тогда как раз поступил, и поскольку я оказался другом второкурсника, он меня быстро ввел в курс дела, что на философском факультете было круче всего, а самым крутым, конечно, тогда была кафедра ИТМК: Вячеслав Всеволодович Иванов, Сергей Сергеевич Аверинцев, Арон Яковлевич Гуревич и фигура, с которой в особенности был связан мой первый год, — Владимир Вениаминович Бибихин. Я был бибихинианцем в том смысле, что не пропускал ни одного занятия Бибихина. Он читал по вторникам специальные курсы. Сначала по Хайдеггеру — по-моему, его я слушал еще до поступления. Потом по Седаковой, он интерпретировал стихи Ольги Александровны. Затем шел специфический авторский курс о Темных веках. Ну, это Бибихин! Сложно его точно предметно маркировать. После этого он читал очень хороший стандартный курс по Ренессансу — кажется, это были уже общие лекции.
Конечно, производила впечатление сама личность и то, на что он обращал внимание. От Бибихина у меня то, что античная философия — это не предмет исторического интереса, не то, что когда-то было и закончило свое бытие, а что-то самое-самое современное. Все-таки Бибихин был секретарем Лосева, от него шла мощная лосевская интенция, трансформировавшаяся в нем самом, что античная философия — это актуально и современно. У Бибихина к этому еще добавился Хайдеггер с той же самой интенцией о том, что возвращение к подлинной мысли — это возвращение к грекам, судьбоносные решения западной мысли были приняты греками.
Я жил и рос в этом мире, этот мир меня определил — мир, который нес с собой (естественно, в своей авторской транскрипции) Владимир Вениаминович, и это незабываемо. Его я слушал больше всего на первом курсе, хотя его даже не было в нашей программе. Я ходил на ИТМК, там собиралось человек 30–40, а иногда и больше, и Бибихин читал свои листочки. Затем мы это подробнейше обсуждали, у нас была компания с Митей Ткачевым, читали тексты Хайдеггера, которые были доступны — их тогда было немного.
— В бибихинском переводе?
— Нет, его еще не было. Мы бросились, конечно, учить немецкий, но читать Хайдеггера еще не могли. Было такое сакральное издание — ротапринтный сборник переводов Хайдеггера Института философии. У меня была ксерокопия. Там были переводы отдельных параграфов Sein und Zeit Александра Викторовича Михайлова и введение Пиамы Павловны Гайденко. Она мне случайно досталась через моего школьного психолога, которая только-только закончила психфак и тоже была носительницей некоторых эзотерических интеллигентских знаний. Меня многие тогда ценили за то, что я был держателем этого текста, который знал наизусть — там были хитовые параграфы про das Man, die Sprache и другие.
— Какие тебе еще преподаватели запомнились? И почему ты серьезно отучился только первый курс?
— Помимо логики, был хороший курс по истории зарубежной философии, который читал индолог Владислав Костюченко. Его работу по Веданте я до сих пор считаю одной из лучших историко-философских книг на русском языке по стилю, подаче и по работе с материалом, она эстетически безупречна, логична и толкова.
Семинары по античной философии вел аспирант кафедры Валера Анашвили. Помню обсуждение с ним апорий Зенона. Лекции же по античной философии нам читал Чанышев Арсений Николаевич. Это умнейший человек, я его очень люблю, но не как историка античной философии, а как оригинальную личность и поэта. Он мог принести на лекцию свою поэму «Пифагор», написанную на рулонах обоев, читать ее, а потом сказать: «Вы все идиоты и бездари, из вас ничего никогда не получится, экзамены вы не сдадите! И зачем вы только поступили?!» Это был замечательный цирк, но без зацепок.
Еще одна зацепка появилась на втором курсе, половину которого я отучился хорошо, прежде чем уйти в свое плавание. После Бибихина второе большое событие в моей научно-творческой жизни — знакомство с Татьяной Вадимовной Васильевой. Естественно, со всей этой бибихинианско-соловьевско-флоренсковской любовью к древностям я не мог не записаться на древние языки, которые на кафедре ИТМК начинались на втором курсе. Прежде их вела там Нина Владимировна Брагинская, а с 1993-го Васильева. Открылась дверь, вошла бабулька. Ну, выглядела она как бабулька, на самом деле ей было лет 50. С двумя авосечками, в платочке, интеллигентного православного вида. И начала вести греческий и латынь.
Было это совсем другое, нежели чем пары Бибихина. Трудно передать! Это была такая вескость во взгляде на греческое и латинское слово, такое умение — нет, даже не умение! То, как Васильева преподавала древние языки и вела курс по истории античной литературы, затрагивало очень глубинные стороны бытия. Античность у нее становилась не современной, а поэтической в таком пастернаковском, что ли, смысле слова. Поэтическое как предел, как концентрация человеческого бытия. Древние языка Васильева преподавала не как обычный преподаватель. Она могла забыть алфавит или долго сидеть и думать над какой-нибудь простой фразой из Козаржевского, наконец сказать: «Пойду спрошу у Андрея Чеславича» (он был еще жив). Но все это не имело никакого значения, потому что для нее античная философия и Античность в целом были концентрацией слова, а слово было носителем какого-то очень конкретного социального, исторического и, главное, жизненного смысла.
— Занимались по учебнику Козаржевского?
— Да, вместе с Васильевой занимались по Козаржевскому. Я полгода нормально отзанимался, а потом из-за своего православного уклона и дружбы с Даниилом Сысоевым ушел в аскетически-мистическое православие. Где-то через год вынырнул.
— Совмещая с учебой на философском?
— Я прочитал почти все основное еще до поступления. Чего-то большего преподаватели на философском не могли дать. Грубо говоря, что из себя представлял философский факультет МГУ 1991 года? За исключением кафедры ИТМК и отчасти моей кафедры ИЗФ, это было место, где обсуждали полемику Пупкина из Саратова с Хренькиным из Ростова по поводу Гегеля, причем ни тот, ни другой Гегеля не читали.
Я просто приходил на факультет и сдавал сессию, но не потому, что был гением. Просто уже прочел Канта, Гегеля, Флоренского, прошел через Бибихина, более-менее начал заниматься греками — ну, мне нечего было там делать. Там не было ничего для меня интересного, за исключением еще одного человека — моего учителя в области античной философии Геннадия Георгиевича Майорова. Вообще он чудесный специалист по философии Нового времени, прежде всего по Лейбницу, и сам очень лейбницианский.
Лейбниц в истории философии — фигура потрясающая, потому что он совмещает математические, естественно-научные, лингвистически-логицистские вещи с общим ощущением гармонии мира, и гармоничен сам по себе, не полемист. Не будем сейчас останавливаться на полемике против Кларка и Ньютона — это особая история.
И Геннадий Георгиевич тоже был таким. Не так часто встречаются люди внутренне гармоничные, от которых эта гармония исходит. Не случаен и его выбор языка. Основным языком, которым он владел в совершенстве и который обожал, был итальянский. Когда он говорил по-итальянски, он еще больше преображался в этой своей гармоничности.
На втором курсе я стал писать у него курсовую, потому что выбрал ИЗФ как более фундаментальную кафедру, чем ИТМК. На последней был тогда не очень здоровый ажиотаж — мне не хотелось толкаться в этих толпах. Майоров был модным научным руководителем, поэтому к нему попадал не всякий — надо было пройти его конкурсный отбор. Он дал мне написать работу, по результатам которой сказал: «У тебя прекрасный язык, будешь работать со мной». А многих он отшивал.
— Чему первая курсовая была посвящена?
— Сравнению платоновского диалога «Алкивиад I» с речью Василия Великого «На слова: Внемли себе» (привет Оле Алиевой!), проблеме самопознания в Античности и в христианской культуре. И еще была подкурсовая про «Горгий», то есть сразу Платон. Так что, да, второй курс — это Васильева и Майоров.
— Чем завершилось твое православно-мистическое приключение?
— Я продолжал штудировать греческий, выучив Новый Завет по-гречески практически наизусть. В итоге я понял, что не могу это принять. У меня включились какие-то филологические вещи, я увидел исторические основы, поэтому не смог в это играть, хотя был уставщиком православного храма, мне очень нравился знаменный распев. Я увлекался связанной со всем этим историей и археологией, древнерусской мыслью, у меня были прекрасные друзья в этой области. Но я не смог. Как бы банально это ни прозвучало, я понял, что я не верю и что, как мне ни дороги люди, я оттуда уйду. И когда я вынырнул, это было очень травматическое, психологически тяжелое переживание.
Я понял, что надо браться за ум. Что это значит? Надо пойти на классику и нормально пройти курс греческого. На третьем курсе я подошел к Валентине Петровне Завьяловой, которая тогда вела у первокурсников, и она меня приняла. Полгода я ходил вольнослушателем, а следующие полгода уже на общих основаниях.
— По какому учебнику занимались?
— По Вольфу занимались, причем еще по непереведенному, немецкому. Надо сказать, тогда была жуткая мода на древние языки. У нас была огромная группа по греческому. Человек пятнадцать филологов и еще примерно столько же вольнослушателей с истфака, с философского, с мехмата...
— Да ладно!
— Да! Мехматовцы сидели и рассуждали про то, что нормальный студент должен знать латынь-то уж точно, а кто посильнее, тот и греческий. Это же совсем другая эпоха была! Тогда гуманитарные знания считались не каким-то отстоем, как сейчас, а были социально востребованы, значимы. И классическая филология вовсе не была, как говорится у Платона в «Горгии» о философии, шептанием двух-трех молокососов по углам. Был другой климат.
Отпахав год на классике и третий на философском, я обнаглел до такой степени, что решил, что должен понять Платона в самой глубине, а самая глубина Платона, как мне было известно из Алексея Федоровича Лосева, через которого я прошел во времена своего православия, — это, конечно, «Парменид». Я выбрал «Парменида» в качестве темы курсовой и понял, что должен перевести его сам. И летом, окончив третий курс, я перевел «Парменида» Платона.
Это было очень тяжко. Это была борьба. Я кое-как знал греческий: у меня было полгода с Васильевой, потом еще год греческого на классике, но этого для перевода Платона катастрофически мало. Тем не менее я перевел где-то за два месяца, пользовался Вейсманом. Это был такой летний подвиг. После этого я преисполнился тем, что могу переводить с греческого. И на четвертом курсе со мной произошли два связанных с этим события.
Во-первых, я обратился к директору православной классической гимназии, где раньше был уставщиком, — собственно, к Алексею Сысоеву. Мы не полностью разорвали отношения, и я сказал отцу Алексею, что, наверное, могу преподавать греческий, потому что у меня есть год на классике и перевод «Парменида» — что еще нужно! Меня взяли, коварно назначив в последний класс, в котором греческий изучали уже три или четыре года — больше, чем я! Мы с ними читали «Федона». В гимназии я преподавал греческий и латынь с 1995 по 2001 год. Там случилось еще одно важное знакомство, о котором позже.
А «Парменида» я показал Васильевой. Мы не общались с ней в течение полутора лет, пока у меня были все эти религиозные искания, а потом случайно пересеклись в метро и я сказал: «Татьяна Вадимовна, а я перевел „Парменида“!» Она говорит: «Дима, я хочу это видеть!» В общем, она даже его одобрила. Конечно, исчеркала полностью первую часть. Я же тогда был философ, считал, что понимаю вторую часть, потому что она философская, а первая часть, где про визит Парменида и Зенона, как они остановились в Керамике и так далее — все эти бытовые вещи я совсем плохо переводил. Она взялась править и даже хотела взять этот перевод для своей книжки «Путь к Платону», но в итоге не взяла — по другим причинам, не потому что ей перевод не понравился. Наоборот, она была очень довольна второй частью и стала меня с тех пор уважать, для меня это было важно.
Тогда же произошло событие, которое в каком-то смысле сделало нас братьями с Лешей Белоусовым. Когда я преподавал в православной классической гимназии, я познакомился с Рустэмом Анасовичем Гимадеевым, который стал моим проводником в мир жесткой питерской классической филологии.
— Он там тоже преподавал?
— Да. Опять-таки, мир бросает кости. Сплошные переплетения судьбоносных случайностей. Он появился там в тот же год, что и я. Однажды он должен был защищать диссертацию, за текстом которой ему нужно было в Питер, а я должен был его подменить на уроках. Он мне позвонил, и мы начали общаться. Его вторая жена была ученицей Майорова на кафедре ИЗФ, и поскольку у нас были эти общие моменты, мы сблизились.
Гимадеева я до сих пор очень люблю. Это сложный, противоречивый, очень талантливый человек, филолог с большой буквы, великолепный знаток не только греческого и латыни, но и русской, немецкой словесности.
Как мне говорила о нем Ирина Владимировна Шталь, он взял самое лучшее от своих учителей — Аристида Ивановича Доватура и Натальи Александровны Чистяковой. Через Доватура он нес традицию очень жесткого грамматического и текстологического анализа, без которого я не воспринимаю филологическую работу, хотя сейчас гораздо свободнее к этому отношусь. Через Чистякову шла Фрейденберг, интерес к архаическому мифу, ритуалу. Он не был фрейденбергианцем, смеялся над марризмом Фрейденберг. Но через Чистякову он и сам стал специалистом по греческой архаике и Геродоту, которого знал божественно, наизусть, во всех подробностях, тончайше анализируя его мысль и слово.
Еще Гимадеев был смелым человеком, что мне в нем безумно импонировало. Он был профессионалом высочайшего класса, свободно писал на греческом и свободно говорил на латыни, причем это была не кухонная латынь, а изысканнейшие периоды, особенно когда он выпивал. Но также он не боялся завиральных идей, смелых гипотез. Он не лез с ними на публику, как многие интеллектуалы моего поколения, которые первым делом вываливали кучу любопытных, но необоснованных идей. Нет, Гимадеев очень жестко различал обоснованное и необоснованное, не говоря уже о том, что был очень жестким филологом в своей работе. Есть и другие стороны его личности, которых я не буду касаться.
— Под твоей редакцией в нулевых вышла «Греческая грамматика» Эмиля Черного. Как ты пришел к необходимости ее переиздать?
— Учебник Черного, на мой взгляд, является очень хорошим введением не только в греческую филологию, но в историческую филологию вообще. Он написан еще в ту эпоху, когда ясность грамматического изложения уже сочеталась с историческим контекстом, но еще не было сверхсложного языка (который раньше я скорее отрицал, а сейчас скорее принимаю) прошедшей через структурализм современной лингвистики, в рамках которой для человека, только приступающего к изучению древнего языка, объясняемое явление гораздо понятнее, чем то объяснение, которое ему дается.
У Черного этого нет, хотя это уже сравнительная грамматика. Чем меня Черный подкупает до сих пор, так это тем, что греческий и латынь даются им в связке со славянским и русским. Основные примеры там — это не нечто вроде de ferriviis, а Жуковский, Пушкин, Крылов, Державин. У него происходит то, что, кстати, очень любила Васильева: когда в более поздней культуре отражается более ранняя, как в случае русской поэзии, которая возникла благодаря французскому классицизму и переводам Писания с греческого на славянский. Этот сложный комплекс начинает играть своими красками, и ты видишь взаимосвязи по грамматическим явлениям. У Черного таких вещей очень много подмечено, в этом смысле он прививает любовь не только к греческому языку, но ко всей славяно-русской традиции. Мне это близко.
— Как ты преподавал в гимназии?
— У нас был обязательный грамматический минимум, но мы хулиганили, экспериментировали. Очень рано в классах привлекали оригинальные тексты, очень много времени уделяли переводу с русского на греческий и латынь. Для перевода брали строчки из Пушкина, которые помнили наизусть, или что-то еще, что всплывало из поэтов. С последним моим выпускным классом мы разбирали «Вакханок» Еврипида по-гречески. Это было довольно трудно для них, но безумно интересно, мы старались учитывать все исторические, религиозные и мировоззренческие детали.
— Давай вернемся на философский факультет. Чему был посвящен твой диплом?
— Мы говорили о моем дорогом, глубоко уважаемом, любимом Геннадии Георгиевиче Майорове. Мой диплом был посвящен опровержению его концепции возникновения античной философии. Геннадий Георгиевич прекрасный специалист по Лейбницу, потом он стал заниматься Августином, от Августина перешел к Цицерону, а от Цицерона к грекам. У него был вот такой обратный путь в истории философии, которую он как бы разворачивал. И в итоге в третьем номере «Логоса» в 1993 году вышла его статья «Роль Софии-премудрости в происхождении философии», где он пытался показать, что греческая софия — это прежде всего мораль. Он исходил из текста в первой книге Диогена Лаэртского о том, что первым философом себя назвал Пифагор, на основе которого заключил, что у греков жестко различалась софия и эпистема: первая была морально-религиозной мудростью, а вторая таким сциентистским идеалом.
Я к тому времени благодаря Рустэму Анасовичу познакомился с греческой архаикой, мы много занимались Гомером, Гесиодом, пришедшим через Доватура Феогнидом, который до сих пор остается для меня одним из центральных барометров греческого архаического мировоззрения. И я понимал, что это не так. И по текстам Платона тоже понимал, что у него софия и эпистема используются как синонимы. И что здесь, наоборот, более права хайдеггерианская, скажем так, традиция, которая видит в греческих философах не тех, кто смог освободиться от давления науки, а тех, кто, наоборот, на эту дорогу встал и по ней пошел.
У Геннадия Георгиевича, с моей точки зрения, произошло определенное наложение немецко-романтического представления о мудрости, которая как бы не связана с научным естествознанием Нового времени. Но эта гипотеза просто не проходила на текстах. Поскольку я тогда был увлечен точной исторической филологией, задачей моего диплома было показать на архаических текстах, что значила софия. В этом мне очень помогли работы Буркхарда Гладигова Sophia und Kosmos, «О греческой Софии» Анн-Мари Малингрей и диссертация Снелля, посвященная мудрости. Исходя из всего этого я распределил значения софии в архаических текстах, внимательно разобрался с употреблением понятия философии и до сих пор считаю, что оно не было термином до Платона и Исократа и только в это время по-настоящему входит в язык. Его появления у Геродота, Фукидида, во фрагментах Гераклита либо случайны, либо сомнительны. Они не показывают терминологического характера. Только в платоновском корпусе и у Исократа «философия» начинает употребляться терминологически.
Вот это все я и пытался показать. Естественно, была большая полемика с Геннадием Георгиевичем. Очень дружеская! Мы много гуляли, спорили, он мне исчеркал весь диплом возражениями. Некоторые были не по делу, но многие по делу, потому что он не оставлял ни одного моего огреха незамеченным. Базис концепции выдержал его критику, и Арсений Николаевич Чанышев, с которым я тоже обсуждал текст, сказал: «Все отлично! Ты Майорова уделал!» Чанышев не любил Майорова, поэтому был очень рад, что его разгромили на его же «софийном поле».
— Твоя кандидатская посвящена Проклу. Как ты пришел к этому автору?
— У меня не было ни малейшего желания писать о Прокле. Еще один мой ближайший друг и коллега по античным штудиям — это Сергей Анатольевич Мельников, мы знакомы с 1992 года. Я тогда себя считал большим эрудитом. Но когда познакомился с Сережей, оказалось, что есть человек, который эрудирован больше меня! Поэтому у нас всегда была такая дружба-соперничество. И неоплатониками занимался как раз Сережа. У Гарнцева он написал очень хороший диплом по трактату Плотина о том, что умопостигаемое не вне ума, в котором тот полемизирует с концепциями средних платоников.
Я был выучеником Гимадеева и Васильевой, а они оба занимались скорее более ранней Грецией: Гимадеев архаической, Васильева — Платоном, Аристотелем и Лукрецием, к которому мне передалась любовь от нее. Но поздний платонизм был не мое. Кроме того, у меня было слишком бурное обсуждение диплома. Любой человек может объявить себя знатоком Платона, и ты его ничем не прошибешь. А если у такого человека имеется институциональная власть, ситуация будет совсем тяжелая. Я очень хорошо относился к Майорову, но мне не хотелось полемизировать с ним снова и снова. Поэтому я решил уйти в ту область, где, я знал, полемики не будет. Поначалу платонизм был просто занятен для меня, но глубинно не задевал.
Но я начал с ним работать и постепенно, в том числе благодаря общению с Сергеем Анатольевичем, до меня стала доходить важность поздней традиции для понимания ранней и то, что нельзя знать Платона, если ты не представляешь себе четко те опосредования, через которые он проходил в платонической традиции. Диссертация по Проклу дала мне возможность погрузиться в мир поздней античной философии. Меня очень заинтересовала жанровая проблема появления философского комментария. Онтология Прокла также совпала с моими тогдашними гегелианско-марксистскими увлечениями. Неслучайно Фейербах однажды сказал, что Гегель — это не немецкий Аристотель, а немецкий Прокл. Под Прокла я тогда много читал Гегеля, они хорошо накладывались друг на друга.
— В кандидатской ты пишешь, что уже в Античности говорили, что Прокл довел толкование Платона до вершины человеческой природы. Как тебе кажется, почему так считали?
— Когда погружаешься в Прокла, многократно перечитываешь по-гречески его комментарии к «Алкивиаду I» и проходишь через каждую лемму, вначале ты открываешь для себя то, что Прокл называет θεωρία, то есть общий смысл платоновского пассажа. Затем ты идешь от θεωρία к λέξις, то есть к разъяснению каждого слова — не грамматическому, а теологически-спекулятивному. В этом методе, выработанном Ямвлихом, Сирианом и Плутархом Афинским и доведенном Проклом до совершенства, присутствует и великолепное знание всей грамматической античной традиции, которое потом было утрачено. В этом смысле комментарий Прокла в силу подробности и необычайной филигранности действительно является для нас пределом человеческой природы. Для обычного читателя из-за неоплатонической постановки вопросов и толкования этот текст будет выглядеть бредом. Но тот, кто в него войдет, оценит прокловскую тонкость, не сопоставимую ни с чем — как, например, чудесная Светлана Викторовна Месяц, мой любимый переводчик Прокла на русский язык.
Также это верх человеческой природы просто в силу трудолюбия. Даже византийские переписчики — люди, которые переписывали огромные объемы текста, — не могли переписать Прокла целиком. Дошедший до нас комментарий к «Тимею» — это больше тысячи страниц греческого текста, который посвящен одной четверти диалога, а полная версия была бы четыре тысячи страниц. Все комментарии Прокла обрываются, кроме комментария к «Пармениду». Он по-гречески оборван, но восстановлен с сохранившегося латинского перевода Вильема из Мёрбеке.
— Прокл полезен для современных платоноведов?
— Да. В качестве экзегета его необходимо читать по-гречески. Это не значит, что без него совсем не обойтись, но все нормальные комментаторы Платона — Штальбаум, Грот, Корнфорд и другие — Прокла читали и читают, это не так уж и сложно. Надо просто себя приучить. Прокл очень часто дает варианты интерпретации. Например, начало его сборника эссе по «Государству» — это набор разных вариантов возможных толкований диалога, которые очень часто повторяются и в современных дискуссиях. Некогда мы дискутировали по поводу комментариев к Платону с уважаемым Алексеем Глуховым, и наша дискуссия фактически уже описана у Прокла как спор между аллегорическим и буквальным истолкованием.
— Почему изучение Платона у неоплатоников начиналось с «Алкивиада I»? И является ли вообще «Алкивиад I» платоновским диалогом?
— Античность особо не интересовалась проблемой принадлежности. Такого рода вопросы возможны только в Новой Европе, потому что там тяжелым грузом на филологов легла проблема новозаветного текста, что отразилось и на подходе к Платону.
Обучение начиналось с «Алкивиада I», потому что он посвящен самопознанию. Это диалог, который должен научить той основе, без которой вообще немыслима философия в платоническом смысле: то, что самое само нашего существа — это не тело, а бессмертная божественная душа, разум. Видимо, Ямвлих сделал из него начальный диалог, за которым следовали другие в соответствии с неоплатонической иерархией добродетелей: от политической добродетели к катартической и вплоть до теургической.
— Иногда говорят, что жанр комментария своим появлением обязан тому, что Сулла, осадив Афины в 87 году, разгромил Академию и Ликей, из-за чего прервалось школьное преемство — по крайней мере, на некоторое время. Из-за этого, чтобы как-то поддерживать традицию и проассоциировать себя с родоначальниками классической эпохи, философы начинают активнее использовать жанр комментария. Ты согласен с таким мнением?
— Нет, у меня другая картинка. В первую очередь ориентализация интеллигенции, всех этих эллинистических городов и Рима. Постепенно утверждается восточный тип отношения к мудрости, которая связана с книгой, с сакральностью текста. Это переход от античного примата устного слова архаической и классической эпохи — который наиболее ярко отображен у Платона в «Федре», но не только у него — к священности текста. Неоплатонические комментарии немыслимы без этого переживания текста как священного. У Прокла есть формулировка, которую любят литературоведы, она действительно хорошая: диалог — это космос, а космос — это диалог. Применительно к христианской культуре о том же культе книги писал Сергей Сергеевич Аверинцев. Это ориенталистская черта, а ориенталистского в ту эпоху становилось все больше и больше. В I веке нашей эры кто-то из римских императоров, когда речь зашла об Афинах и о греческой философии, сказал, мол, нет там больше никаких греков. Восточное влияние на античную культуру было очень сильно.
Я, конечно, не шпенглерианец, но над мнением Шпенглера, что начиная с I века мы имеем дело с тем, что он называет арабской или магической культурой, строящейся вокруг культа книги, по-моему, стоит задуматься.
Ямвлих поступает точно так же, как современные ему христианские отцы. Он создает канон из двенадцати диалогов, устанавливает правила истолкования — теорию σκοπός, того главного, чему подчинено все, что в диалоге есть. Этот канон анагогической последовательности: мы начинаем с робкого признания того, что мы не тело, а душа, и через добродетели постепенно восходим к богопознанию в мире космическом («Тимей») и непосредственно божественном («Парменид»), заканчивая мистическим экстазом халдейских оракулов, орфических гимнов и теургий как чудотворством. Пастернаковское «и творчество, и чудотворство» — это завершение неоплатонического обучения Платону. Это совершенно не связано с проблемой преемства и сохранения текстов. Нет, изменилось само отношение к тексту, который стал сакральным.
В эпоху поздней Античности Платон и мир Афин V века уже превратился в далекое воспоминание. Начиная со второй половины IV века были гонения на инакомыслящих, запрет языческих богослужений. Прокл вообще живет в ситуации религиозного преследования, когда Афины остаются разве что в качестве некоего заповедника благодаря покровительству остатков сенатской аристократии. Но там тоже опасно, и Проклу, поскольку он открыто вел себя как язычник, пришлось уехать на родину в Ликию, где в течение двух лет он был в эмиграции.
Античная традиция заканчивалась. В последних неоплатониках очень сильно чувствуется трагизм уходящей культуры. У Симпликия в комментариях к Аристотелю встречаются элегические моменты, когда он говорит: «Книги уже не переписываются, поэтому я процитирую кусок побольше оттуда-то».
— Тебе не кажется, что в этот период оставалось еще много античного? Ангелос Ханиотис распространяет социальные и культурные тенденции эллинизма вплоть до III века нашей эры. Схожим образом мы могли бы проследить некоторые исконно античные явления вплоть до конца Римской империи и даже дальше.
— Это вопрос того, как мы рассматриваем историю — с точки зрения континуальности или дискретности. Мы можем подчеркивать либо непрерывность передачи традиции, либо какие-то дискретные моменты. Я не говорю, что тогда произошел какой-то колоссальный разрыв — конечно, культура продолжала передаваться в той или иной степени. Между Средними веками и Античностью тоже нет полного разрыва. Но происходит процесс медленных деформаций.
В философии сильно меняются формы. Если мы возьмем классический и эллинистический период — академиков, перипатетиков, стоиков и эпикурейцев — это все-таки еще очень античный мир. Их основное занятие — дискуссия. Эти школы жили устной культурой, несмотря на то, что некоторые писали очень много, как Хрисипп. Тем не менее прежде всего это культура диспута, постановки проблемы, обоснования, опровержения — в ней сохраняются все эти агонистические формы Античности, а комментарий еще не может быть превалирующей формой. Постепенно, начиная где-то с I века до н. э., в философии накапливается все больше и больше неопифагорейского и платонического элемента. Порфирий не совсем удачно попытался сделать канон из сочинений Плотина, но Плотин — слишком сложный автор для того, чтобы стать основой школьного канона. Ямвлих пошел по более простому пути: зачем нам Плотин, когда мы можем взять диалоги Платона, построить их в определенной последовательности, определить, что значит каждый из них, применить сюда Плотина — и получить неоплатонический канон священных текстов. Мне кажется, между этим и тем, что делали условные Аркесилай и Карнеад, есть существенная разница.

— «Государство» — один из самых изученных текстов Платона. Что тебя сподвигло тем не менее посвятить ему докторскую?
— Изначально я не хотел писать о «Государстве», у меня был другой замысел. После Прокла я какое-то время занимался Плотином. Перевел первую «Эннеаду», потом «Жизнь Плотина» Порфирия с комментарием. Но в какой-то момент я устал заниматься неоплатонизмом. Это такая специфическая психоделика, когда ты живешь в мире умопостигаемых триад и больше всего тебя волнует проблема падения души. Поэтому я вернулся к архаике. У меня была мысль написать историческое исследование по справедливости на основе средиземноморских и ближневосточных материалов, в том числе из Египта, Шумера, Аккада. Стал учить иврит, читать тексты Ветхого Завета.
Но, естественно, прежде всего думал о греках и архаической греческой мысли. Платон меня тогда еще не интересовал напрямую. Я пытался разобраться в том, что такое δίκη у Гомера и в арахической традиции, читал много второисточников, но у меня не складывалось понимания, пока я не прочел двух книг.
К тому моменту я уже давно знал и ценил Эрика Робертсона Доддса: и «Греков и иррациональное», и поздние лекции «Язычник и христианин в эпоху беспокойства», и автобиографию The Missing Persons. Одно время, в конце девяностых, Доддс был для меня настоящим ориентиром, и я не жалею об этом: это очень умный, тонко чувствующий филолог, историк религии и культуры. Так вот, один из его учеников, Артур Эдкинс, написал великолепную работу по греческой этике Merit and Responsibility. A Study in Greek Values, где развил концепцию Доддса о противоборстве shame culture и guilty culture. Он более четко и более позитивистски выверенно провел ее по текстам, придя к выводу, что в греческой мысли доминирует элемент merit, заслуги, τίμη, по сравнению с элементом responsibility, который, конечно, встречается, но не играет первую скрипку в греческих моральных теориях.

Но главным моим любимцем — я прочитал все, что вышло из-под его пера, — стал преемник Доддса в Оксфорде в качестве Regius Professor of Greek Хью Ллойд-Джонс. Я знаю, Андрей Валентинович Лебедев очень высоко ценит Ллойда-Джонса, они были знакомы. Когда Ллойд-Джонс увидел лебедевские стихи на греческом, он сказал, что Россия не погибла, пока в ней еще не перевелись люди, которые способны на такое.
Его книга The Justice of Zeus поразила меня тем, что в ней он нащупал новый путь, иной, чем у Доддса и Эдкинса, который совмещает в себе фундаментальную филологическую работу и при этом неприятие некоторых базовых историко-филологических установок. Грубо говоря, любой нормальный филолог, реконструируя систему моральных представлений древности, ориентируется прежде всего на словарь терминов, которые мы можем определять по тем или иным контекстам. Ллойд-Джонс замечает на это, что когда мы реконструируем, например, мир гомеровских представлений, ориентируясь на те слова, которые употребляются в поэмах Гомера, здесь эта общепозитивистская установка проваливается. Естественно, слов и их контекстов было гораздо больше. Поэтому говорить про какую-то гомеровскую культуру VIII-VII веков, отталкиваясь от жалкого количества текстов, которые до нас дошли, нет никакого смысла.
Еще важнее второе соображение, касающееся роли поэтического. Ллойд-Джонс гораздо более тонко чувствует поэтическое в греческих поэтах, чем Эдкинс, который рассматривает их как историк морали. Не всегда к словам поэта мы можем отнестись как к интервью. Поэтический текст — это поэтический текст.
В-третьих, система архаических представлений, какую мы можем реконструировать по гомеровским поэмам или трагедиям Эсхила, обладает большой цельностью и поддается описанию, которое он совершает вслед за работой Корнфорда From Religion to Philosophy, где речь идет о распределении почестей, за которым наблюдает Зевс. У Доддса история греческой морали диахроническая, он подчеркивает эволюцию. Ллойд-Джонс не отрицает изменений, но эта архаическая система представлений не сильно эволюционировала, оставаясь единой от Гомера до Фукидида и софистов. В этом отношении Ллойд-Джонс похож на Корнфорда, писавшего про Фукидида-мифоисторика.
— Как это возможно? Казалось бы, за эти века общество должно было сильно изменится.
— Оно изменялось, но многие элементы общественной жизни остались неизменными. Процесс социального изменения не происходит напрямую. Надстройка, и это знал даже Маркс, запаздывает. Даже если мы остаемся на жестких марксистских позициях, нет ничего странного в том, если в голове афинянина V века сидят вещи, восходящие к VIII веку. Он не обязан тут же перерабатывать социальную действительность с агорой, народным собранием и прочими реалиями V века. Это тоже отражается, но на других уровнях.
Благодаря книжке Ллойда-Джонса я получил возможность лучше понять тему справедливости. Тогда-то и появилось место для Платона, которое как раз заключается в изменении всей этой системы, когда мы от справедливости Зевса переходим к тому, что я в диссертации назвал интериоризацией справедливости. Этот процесс постепенно происходил и до Платона, и я показываю некоторые точки этой интериоризации, в том числе у Феогнида (даже у Феогнида!). Но у Платона мы уже полностью переходим к справедливости души.
— При этом ты практически не пишешь про справедливость у доплатоновских философов. Глава про Анаксимандра тебе нужна исключительно для того, чтобы сказать, что, на твой взгляд, его знаменитый фрагмент не аутентичен и является двойным парафразом, с чем, мне кажется, Андрей Валентинович не согласился бы. Почему ты не не хочешь опираться на те, пусть и немногие, свидетельства архаической философии, которые все же имеют отношение к теме справедливости? У того же Гераклита?
— Это специфика моего подхода. Я чувствую себя очень неуверенно, если не могу задать контекст. Скажем, на вчитывание в Пиндара я могу тратить сколько угодно времени, это довольно большой объем текста, у меня вырисовывается некий общий контекст. Я завидую ужасной завистью Андрею Валентиновичу, потому что он мастер сам, актом своего творческого бессознательного, воссоздавать эти контексты досократической философии. Но я так не умею, особенно когда имею дело с самими текстами. Я же каждый год их преподаю и прохожу со студентами. И каждый раз заново перечитываю по-гречески. Тема справедливости играет для ионийских космологов гораздо меньшую роль, чем для поэтов. Потому что в поэте преломляется обыденный разум. Проблемы справедливости его волнуют гораздо больше, чем ионийского натурфилософа, для которого важны совершенно другие вещи.
Она есть у Гераклита, но Гераклит — слишком специфическая область. Быть может, на меня повлияли платоновские издевки над досократиками, я воспринимаю их как набор своего рода μῦθοι, сказок, поэтому я их вполне сознательно исключил из диссертации. Поэты ставят те проблемы, о которых потом будет говорить Платон, обсуждая справедливость, воспитание, педагогику, устройство души, добродетелей. Поэзия, в отличие от досократиков, со всем этим органично сочетается.
— Афинские трагики были последними, у кого отразилась справедливость Зевса? Или у них были какие-то иные формы того, что ты называешь интериоризированной справедливостью?
— Такого, как у Платона, у них, пожалуй, нет. Они по-разному подходили к этой проблеме. Трудно ответить в двух словах, но тем не менее Эсхил верит в то, что правда Зевса торжественно совершается через наказания, которые Зевс обрушивает на человека. Они приводят его к страданию, а через страдание он приходит к трагическому познанию — πάθει μάθος, как поет хор в «Агамемноне». Через страдание Зевс воспитывает человека, ведет его к пониманию мироустройства, которое основано на божественной Правде.
У Софокла совершенно другой мир — человеческая справедливость и божественная справедливость в нем полностью разделены. Божественная справедливость настолько трансцендентна и выходит за пределы человеческой, что мы не можем даже оценивать действия богов, они не поддаются нашим меркам. Доддс в одной из статей, в которой громит теории морального истолкования «Царя Эдипа», приводит фрагмент Гераклита о том, что то, что для человека прекрасно и справедливо, для бога постыдно и безобразно. Этим фрагментом он иллюстрирует то ощущение справедливости, которое возникает у Эдипа. Чем он виноват? По человеческим меркам, он сделал все, чтобы не совершить содеянного. Он прав, когда говорит в «Эдипе в Колоне», что ничего не совершал, а претерпел. Тем не менее он проклят Аполлоном, и справедливость Аполлона не коррелирует с моральным совершенством Эдипа. Она его уничтожает. Почему? Даже не потому, что род его проклят, а потому что бог так захотел.
У Еврипида наступает полный раздор, невозможность примирить справедливость по природе и по установлению. Если Софокл про разорванность человеческой и божественной справедливости говорит, что так и должно быть, то Еврипид говорит, что этого не может быть, не должно быть — но это есть. Отсюда изображаемые им столкновения и конфликты.
— Софокл в «Эдипе в Колоне» подводит к тому, что человек должен принять божественную справедливость? Как в переводе Зелинского: «Я освящен и просветлен страданьем!»
— Будучи тем, кого проклял бог, Эдип становится носителем божественной благодати в силу двусмысленности этой проклятости, которая в то же время является близостью к божеству, выделенностью. Его проклятое тело — тело, совершившее самые ужасные гнусности, отцеубийство и совокупление с матерью, — становится залогом освящения участка в Колоне и источником благодати. Мне кажется, здесь Софокл, опять-таки, скорее подчеркивает потусторонность божественной справедливости относительно нас.
— Вернемся к Платону. В чем ты видишь основные слабые места его девелопменталистского прочтения?
— В первую очередь даже не в том, что оно зиждется на совершенно недостаточных фактических основаниях, хотя и в этом тоже. Когда, например, мы принимаем 374 год за дату написания «Государства», потому что Виламовиц писал, что Платон вряд ли мог написать «Государство», когда ему еще не было пятидесяти лет, поскольку в «Государстве» говорится, что философ может править только после пятидесяти. Такого рода рассуждения — пример методологической наивности, на них ничего не построишь.

Античность вообще не занималась хронологией платоновских диалогов. Интерес к хронологии — мы об этом много говорили с Татьяной Вадимовной Васильевой, которая тоже думала над этим, — возникает в Германии XIX века с ее романтизмом, историзмом, вниманием к жизни. Но это не античный интерес. Если мы пытаемся мерить Платона платоновской меркой (а я ученик Васильевой, чей методологический призыв был — читать Платона по-платоновски), то хронология не может служить такой меркой. Дело не в том, что мы не знаем, в какой последовательности написаны диалоги, что доказывается простым обращением к разным исследованиям, в том числе стилометрическим, в которых диалоги постоянно кочуют из одной группы в другую. Главное в том, что когда нас занимает Платон, надо ответить честно самому себе на вопрос: что именно нас интересует? Мысль Платона или дата написания? Идея и концептуальные ходы или вопрос о том, в какой день Платон поставил точку и закончил тот или иной диалог?
Мне кажется, чисто методологически, как когда-то сформулировал Льюис Кэмпбелл, внимательное чтение платоновского текста, который доступен нам эмпирически, вот он, лежит перед нами, и относительно него нет особых сомнений в том, что это платоновский текст, гораздо больше скажет нам о Платоне, чем гипотетические рассуждения о том, когда этот текст написан, данных о чем у нас нет.
Когда написана «Апология»? Terminus post quem понятен, не до смерти Сократа. А ante quem — 399, 397, 395, 390 год? А когда вышло сочинение, против которого якобы направлена «Апология»? Тут начинается игра возможностей. Играть в это порой забавно, но если речь идет о более стабильных результатах, о том, что Платон называет βεβαιότης, это не самый лучший путь.
— Но эволюционистский метод Йегера дал значимые результаты в отношении Аристотеля?
— Нет! Он породил огромную литературу, но ученый мир — это ученый мир. То, что сделал Йегер, было сделано по аналогии с платоноведением XIX века, просто к Аристотелю он применил эти ходы один из первых. Но в его результатах нет ничего надежного. Более того, в отношении Аристотеля там еще меньше надежного, чем в случае с Платоном. У Платона есть хотя бы какие-то отсылки к историческим реалиям, и я не буду спорить с тем, что «Апология» написана раньше «Политика». Но такие абстрактные тексты, как у Аристотеля, при желании можно толковать абсолютно в любую сторону.
У меня писал диссертацию прекрасный специалист Артем Юнусов, выбравший в качестве методологического ориентира не Йегера, а Росса. Мы с ним вместе согласились, что для реального изучения Аристотеля — его логики, эпистемологии — лучше обойтись без этой спекулятивной биографии.
— Тебе не кажется, что есть множество философов, которых делят на «раннего» и «позднего»? Ницше, Витгенштейн, Хайдеггер, Фуко...
— Да. Но можно привести контрпримеры с Шопенгауэром или Лейбницем. У Лейбница был вначале крошечный период материализма или этакого спинозизма, но потом почти все его сочинения написаны с единых позиций. У Шопенгауэра вообще нет никаких перемен. И даже в философии тех, у кого есть эти переломы — Шеллинга, Ницше или Хайдеггера — хорошие историки мысли всегда видят и мощное личностно-творческое единство.
Я не отрицаю, что у Платона менялся стиль. Я был бы невеждой и безумцем, если бы после Кэмпбелла и Константина Риттера не видел разницы между, с одной стороны, «Лахетом» и «Лисидом», с другой — «Политиком», «Тимеем», «Софистом» и «Филебом».
Но когда мы говорим об эволюции Платона, дело не столько в стиле, сколько в том, менял ли он фундаментальные установки своей философии? Вот о чем спор! И здесь ничто не заставит меня утверждать, что он изменял теорию идей, учение о бессмертии души и примат логики и математики в онтологии. Как сейчас говорит молодежь, это база Платона, и она была у него всегда. А то, что он в каком-то диалоге употребляет εἶδος один раз, а в другом двадцать пять — это зависит от литературной и, так сказать, социальной функции диалога.
— Ты думаешь, в «Апологии» мы можем найти какие-то указания на теорию идей или бессмертие души?
— «Апология» — это платоновская версия публичной речи, высказанной перед тысячами невежественных, с точки зрения Платона, извращенных демократией слушателей. Что у них в душе, золото, серебро или медь, если применить концепт из «Государства»? Конечно, медь. Ну и какая для них может быть теория идей? Тем более время выступления в суде ограничено. «А теперь а давайте порассуждаем...» — и бабах, что-нибудь вроде четвертого аргумента из «Федона»! Не тот случай!
Опять-таки, для нас теория идей давно вошла в культурную и философскую память. Но для самого Платона это странный парадокс. В «Государстве» ей предшествует целых пять книг. То есть теория идей — вещь крайне удивительная, почти невозможная. Лосев удивлялся, почему Платон посвящает ей так мало слов. Во многом именно потому, что это парадокс. Теория идей не может подойти всем и каждому. Платон в этом отношении элитист.
— Как мы можем объяснить с точки зрения унитарного метода те различия, которые находим в диалогах? Скажем, то, как Платон излагает теорию идей в «Федоне», «Государстве» и «Пармениде»?
— Проблема в том, что мы понимаем под «излагает». Как правило, мыслители уровня Платона не «излагают». У них происходит нечто другое. Платон в первую очередь пишет диалоги. В них всегда есть определенные вариации. В «Федоне» теория идей появляется в четвертом аргументе. Она там нужна для конкретной вещи — чтобы абсолютно достоверным способом доказать бессмертие души.
Теоретические ходы Платона, как правило, обусловлены тем, что именно он хочет сделать. Мы могли бы обойтись в «Федоне» без теории идей, если бы он посчитал достаточным, например, первый аргумент. Теория идей возникает там, где он считает нужным, чтобы она возникла. Поэтому там, где в ней нет необходимости, ее может и не быть.
В «Законах» есть одно место, где некоторые видят намек на теорию идей, но в принципе можно сказать, что в «Законах» ее нет. Значит ли это, что Платон от нее отказался? Означает ли умолчание отказ? Вряд ли, ведь она там особо не нужна. В «Государстве» на ней строится система воспитания философа. В «Законах» мы сбавили пафос и рисуем более приближенный к земле вариант, у нас нет специального философского воспитания и логико-математической онтологии, которая фактически и есть теория идей. Она там не нужна.
Если подходить к Платону более живо и видеть в нем не «излагателя», который себе постоянно противоречит, а, быть может, единственное в истории человеческой мысли явление, когда не философом пользуются концепции, а он пользуется ими, тогда у нас не будет возникать грубых противоречий.
Я не говорю, что в платоновской онтологии нет противоречий, если мы рассматриваем ее как философскую доктрину. Они есть, и сам Платон их признает, подступаясь к ним в «Пармениде» и в первой части «Филеба». Он говорит про эти парадоксы и, с моей точки зрения, дает намеки на их решение. Но ловить его на таких примитивных противоречиях — немного не тот уровень. Так любит поступать Аристотель, но это полемический метод самого Аристотеля, который сознательно всегда действует одним и тем же образом: очень сильно спрямляет позицию оппонента, чтобы получить противоречие. Значит, этой позиции недостаточно, а достаточно будет «то, что предложу я, Аристотель».
Некоторые историки философии говорили, мол, Платон — это какая-то донаучная стадия со всеми вот этими художественными красотами, а Аристотель — первая нормальная научная стадия, поэтому мы верим Аристотелю и не верим Платону. У Платона мы не можем найти примитивного дуализма основных начал, единого и неопределенной двоицы, а у Аристотеля есть противоположность единого блага и множества. Значит, Аристотель имел доступ к какой-то секретнейшей доктрине Платона. И вот, мы верим Аристотелю и принимаем его критику.
Но в каком-то смысле Платон — мыслитель гораздо более тонкий, искусный и искушенный, чем Аристотель. Аристотель — отец логики, алгоритмического мышления. Платон находится в другой плоскости.
— Откуда тогда у Аристотеля взялись рассуждения про единое и двоицу у Платона?
— Не хочу никого шокировать, но Аристотель может спокойно конструировать такого рода построения. Например, вопреки мнению всех современных ему академиков и последующих платоников, он считает, что «Тимей» рассказывает о возникновении мира во времени. В буквальном смысле он прав. Если не обращать внимания на литературный антураж и двусмысленности, в «Тимее» будет примитивная картина, что-то вроде Книги Бытия. Аристотель специально читает таким образом ради полемики: «Раз мир возник во времени, значит, это ведет к таким-то и таким-то противоречиям».
— Что ты думаешь по поводу неписаного учения Платона, свидетельств, касающихся его лекции о благе?
— Можно критиковать меня сколько угодно, но, на мой взгляд, после книг Чернисса The Riddle of the Early Academy и Aristotle’s Criticism of Plato and the Academy вопрос закрыт. У Кремера и Гайзера замечательные исследования по истории платонизма, о том, что еще начиная с Древней Академии началась, как пишет Тайлер, die Vorbereitung des Neuplatonismus. Но мне не кажется, что это имеет отношение к Платону. Толстовцы правильно интерпретируют учение Толстого или нет? Правильно, только мир Толстого намного больше, чем толстовское учение.
До того, как начался процесс его институционализации, творчество Платона питалось из другой почвы. Когда же он начинает интерпретироваться через институции философской школы, начиная с Академии и Ликея, то мир, который он создал, деформируется, становится миром учебной, академической философии. Иногда я пишу, что это плохо, но это такой же исторический процесс, как любой другой.
— В чем задачи платоновского «Государства»?
— Прежде всего, «Государство» — это не политический трактат. Это рассуждение, путь, который должен показать, что подлинной основой справедливости является отношение частей души, а не та самая справедливость Зевса в архаическом смысле и тем более не софистические попытки ее осмыслить в лице Полемарха и Фрасимаха, ведущие к тому, что справедливость невыгодна сильнейшим. Платон ведет борьбу с тем, что мы бы назвали нигилизмом — радикальным, революционным, софистическим нигилизмом своих современников. В каком-то смысле это попытка спасти архаическую справедливость, потому что в справедливость Зевса верить было уже нельзя.
Задача Платона — показать, что есть новые основания быть справедливым. Не потому, что иначе Зевс долбанет молнией или не будет на том свете орфического рая с яствами и питьем, а потому, что справедливость ценна сама по себе. В каком-то смысле Платон — предшественник этики Канта в абсолютно ином контексте, с другими обоснованиями, но все же как для Канта самоценна добродетель, точно так же справедливость самоценна для Платона. Поэтому справедливость — это благо, хотя благо не исчерпывается справедливостью, это более общая идея.
— Какое отношение пассажи, касающиеся устройства полиса, имеют к самоценности справедливости? Скажем, причем тут общность жен и детей?
— К пятой книге, в которой говорится про женщин, основное путешествие уже завершено в том смысле, что собеседники Сократа в четвертой книге согласились с тем, что справедливость — это добродетель души. Смысл пятой, шестой и седьмой книг в описании трех основных вещей, связанных с идеальным устройством полиса. Это, соответственно, женский вопрос, семейный вопрос и правление философов. Общность жен — это тема сократических кружков, которую Платон наследует от Сократа. Со справедливостью души она связана через разумность устройства общества, которое исходит из понимания справедливости как правильного соотношения частей души. Человеческая природа у мужчин и женщин едина, следовательно, душа мужчины и женщины одинакова.
Легко поймать на противоречии в рамках школьно-институционального подхода, когда к Платону применяются заведомо другие правила игры позднейшей академической институционализированной философии. Но платоновская поэтика и способ производства текста — это не «Наука логики» Гегеля и не Фихте, где из одного должно необходимым образом следовать другое. Без понимания этой поэтики «Государство» от первой до последней книги не складывается воедино.
— Тебе никогда не бросалась в глаза схожесть описания σωφροσύνη и δικαιοσύνη в «Государстве»? Обе уподобляются некоторому созвучию и гармонии.
— Все-таки софросюне — это подчиненность низшей части души высшей. То есть это не общая добродетель, которая распространяется на всю душевную организацию, а лишь то, что умеривает и ограничивает самую сложную ее часть — бурную, вожделеющую. Она — узда для ἐπιθυμητικόν, который постоянно возбухает, воздымается, поэтому его надо σωφρονίζειν. Например, в конце «Крития», прежде чем он обрывается, Зевс собирает богов и говорит, что хочет сделать народ атлантов ἐμμελέστεροι σωφρονισθέντες, то есть привести в созвучное состояние, смирив их, умерив возбухающее вожделеющее начало.
А δικαιοσύνη регулирует все части души, потому что отвечает за то, чтобы каждый делал свое. Другое определение δικαιοσύνη у Платона — это οἰκειοπραγία: когда каждая часть души делает свое дело. Разумная часть, λογιστικόν — рассчитывает, λογίζεται. Θυμοειδής слушается логистикона, решая, против кого направлять свою ярость, а против кого нет. Задача ἐπιθυμητικόν — осуществлять функции низшей природы, растительно-размножающие, и не претендовать на первенство. Если эта часть души начинает претендовать на первенство, то, как у Феогнида, τίκτει γὰρ κόρος ὕβριν: хюбрис вскармливается, рождается κόρῳ, пресыщением. Акт преступления для архаической греческой этики заключался в пресыщении, которое порождает наглость, а наглость заставляет переходить положенные пределы — нарушать уставы богов и людей. У Платона то же самое отношение, только в частях души. Если не будет софросюне, вожделеющая часть захватит власть — и это будет тирания. Что происходит с душой тирана? Тирания — это предельная деградация души, в которой вожделеющее начало реализует свои самые омерзительные функции. Его тайные вожделения не знают предела и ни перед чем не остановятся.
— Одна из центральных идей «Государства» — благо. Часто можно встретить мнение, что идея блага в «Государстве» обладает особым онтологическим статусом по сравнению со всем остальным бытием, оно ἐπέκεινα τῆς οὐσίας, из нее проистекают все прочие идеи. Ты же доказываешь, что благо для Платона обладает исключительно или преимущественно этическим характером.
— Моя позиция по этому вопросу не оригинальна. В платоноведении вообще редко бывают оригинальные позиции. Меня в свое время убедили ранние работы Пола Шори, написанные еще до его знаменитой The Unity Of Plato’s Thought, расколовшей платоноведческий мир 1900-х. Шори говорит о том, что идея блага у Платона играет совершенно другую роль.

Проблема здесь, опять-таки, в наложении двух оптик: систематической оптики Аристотеля и Древней Академии и контекстуально-событийной оптики самого Платона. Платон не строит онтологической системы, он не Гегель, не Шеллинг и даже не Аристотель. Он не выстраивает систематики идей.
Идея блага крайне важна, но это не значит, что она представляет собой то единое, из которого путем эманаций или какой-то арифмологической спекуляции возникает множество. Если мы пытаемся сделать Платона систематическим онтологом, тогда, естественно, каждое лыко в строку, мы охотимся на такие пассажи, пытаясь их систематизировать. Но если мы смотрим на Платона контекстуально, зачем появляется идея блага в «Государстве»? Она возникает в весьма конкретном контексте — в контексте завершения воспитания философа при переходе непосредственно к политической деятельности для урегулирования полиса. Это лейтмотив платоновского творчества: тот, кто регулирует свою жизнь или жизнь полиса, должен рационально понимать, почему он это делает. На платоновском языке это значит, что он должен видеть идею блага, потому что каждое действие должно быть целесообразным. В этой целесообразности и заключается знание идеи блага.
Вначале мы встаем на путь мусического воспитания, когда нам рассказывают правильные сказки. Потом — гимнастического воспитания, правильной врачебной, диетической и гигиенической практики. Затем следуют математические науки. Благодаря этому происходит очищение ока души, разума, для того, чтобы мы могли поступать абсолютно целесообразно, рационально. По Платону, «поступать целесообразно и рационально» — значит видеть идею блага. Например, решать, хорош ли некий закон или плох, целесообразен для сохранения правильной формы государства или нет. Вот для чего нужна идея блага. Не для мистических экстазов или каких-то спекуляций. Платон в этом смысле крайне прагматичен в своем мышлении — гораздо более прагматичен, чем мы, прошедшие через немецкий и французский романтизм, через искусство XX века. Иногда нам не хватает этого античного цинизма, целесообразности.
Конечно, в шестой книге появляется красивый образ солнца. Но зачем Платон рисует такие образы? Потому что они хорошо действуют на публику, которой гораздо труднее объяснить то же самое в категориях отвлеченных и логических. Неслучайно у Платона идет лейтмотивом, что людей, по-настоящему причастных к философии (а не истинному мнению), считанные единицы.
Не надо путать Платона с Аристотелем, которого интересуют онтологические категории. Аристотель обсуждает и идею блага, и зла, и дуализм, и массу чего еще. Но мыслит он уже иначе, чем Платон. Мышление Платона событийно, ситуативно. В этом сложность подхода к платоновскому творчеству — мы не можем опираться на системную логику. В этом смысле Платон гораздо ближе к нашему времени и гораздо более постмодернистский. Его скорее можно описывать на языке Жиля Делеза, чем какого-нибудь более здравомыслящего автора, хотя сам он крайне здравомыслящий автор, для прояснения которого было сделано очень много такими филологами, как Бенджамин Джоуэтт, Герман Бониц, Поль Шори и другими. Трехтомное издание Пауля Фридлендера я считаю одной из лучших книг о Платоне на немецком. В ней есть множество вещей, о которых я сейчас говорю.

— «Государство» многие хотят как-то увязать с той биографией Платона, какую мы находим в Седьмом письме и жизнеописании Диона у Плутарха. Ты веришь этой биографии в основных моментах?
— У меня не вызывает какого-то глубинного отторжения то, что можно найти в Седьмом письме, если оставаться на уровне самых базовых исторических фактов. То же самое относится к биографии Диона. Но, с моей точки зрения, Седьмое письмо и биография Диона как раз противоречат возможности биографической интерпретации «Государства» — за исключением того, что личный контакт с сицилийским двором мог внести определенные черты, чисто художественные, в изображение тирании.
— Тебе не кажется, что сицилийские поездки Платона отразились в изображаемом в «Государстве» переходе философа к политической деятельности, в том, что, увидев солнце, он должен не продолжать предаваться исключительно философии, но вернуться в пещеру и помочь остающимся там?
— Я всегда воспринимал эти пассажи в контексте, выражаясь по-современному, травмы Платона, связанной со смертью Сократа, чей трагический образ у него регулярно тем или иным образом всплывает. У Платона (как и у других сократиков) не совсем чистая совесть в этом отношении, он пытается оправдать Сократа, показывает его человеком благочестивым, потому что того судили из-за ἀσέβεια. В изображении пещеры я, как и многие другие, вижу абстрактно преломившуюся судьбу Сократа, на что среди прочего указывают слова, что вернувшегося философа не будут слушать, возможно, даже убьют. Для этого не нужна никакая Сицилия — достаточно Сократа, которого реально казнило афинское демократическое общество.
Я не отрицаю того, что Платон ездил на Сицилию, и вполне доверяю тому же Плутарху в описании основных исторических фактов в биографии Диона. Но, заметьте, Плутарх никак не связывает с этими событиями литературное творчество Платона.
— В одной из недавних статей ты пишешь, что в России сегодня не существует истории античной философии, а нынешняя отечественная ментальность и античная философия — вещи несовместимые. Не мог бы ты конкретизировать, что ты имеешь в виду? И что можно сделать, чтобы история античной философии возникла?
— Это было сказано отчасти в полемических целях. В первую очередь этот пассаж имеет в виду конкретных лиц, которые больше всего «светятся» в публичном пространстве, профанируя и проституируя важное дело. Конечно, в России есть история античной философии и прекрасные исследователи. Тем не менее ситуация довольно специфическая. Все классические штудии у нас оборвались после революции 1917 года. В ХХ веке у нас было бы свое, очень интересное платоноведение, если бы мы не решили преподать миру другие уроки.
Если говорить прагматически, мне бы очень хотелось, чтобы в платоноведении и истории античной философии в целом мы (я это отношу и к себе) не пытались действовать по неким упрощенным алгоритмам. Чтобы люди с филологическим образованием более трепетно относились к логицизму и рационализму греческой философии, не ленились прослеживать аргументативные стратегии. Это можно делать по-разному, я не говорю, что у меня есть какое-то однозначное решение — это было бы нелепо. Чтобы мы, овладев исторической техникой толкования текста, то есть, в отличие от какого-нибудь философа, разобравшись, что с мыслью Платона происходило в интерпретации Аристотеля, Академии, в последующем платонизме, использовали это для понимания Платона, а не только для демонстрации своей эрудиции.
По поводу того, что делать для истории античной философии, я ничего не могу добавить к словам Юрия Анатольевича Шичалина, чье издание «Федра» в свое время на меня сильно повлияло. Юрий Анатольевич сказал там простые вещи, с которыми я согласен: философы с помощью филологов должны читать текст на греческом. Я бы добавил, что филологи, в свою очередь, должны очень внимательно относиться к философским текстам. Хотя, конечно, никаких готовых рецептов нет. Сейчас слишком тяжелое время, чтобы думать про то, как спасти у нас античную философию.
— Что бы ты посоветовал прочесть первокурсникам, увлекшимся античной философией?
— Я бы порекомендовал работы Татьяны Вадимовны Васильевой. В качестве введения, например, «Комментарии к курсу истории античной философии». Также «Логос Гераклита» Андрея Валентиновича Лебедева — не потому, что я дал бы голову на отсечение за каждый выдвинутый там тезис, но как пример очень интересной творческой работы по античной философии.
Рекомендовал бы читать переводы Светланы Месяц, тот же комментарий Прокла. Выбор странный для первокурсника, но так он соприкоснется с античным текстом. Еще советую использовать в качестве подспорья прекрасный словарь по античной философии, который подготовила Мария Анатольевна Солопова.
Посоветовать что-то определенное сложно, все люди разные. На меня, например, в свое время сильно повлияла книжка Пьера Адо «Плотин, или простота взгляда», она очень хороша.

— Да, отличная книжка, мне особенно нравится ее размер, в задний карман джинсов можно положить. Коль скоро речь зашла про Адо, что ты думаешь о нынешнем увлечении массовой публики античной философией? Современный стоицизм, который последние десять лет все покоряет и покоряет новую аудиторию, во многим обязан работам Адо о философии как об образе жизни. Как ты оцениваешь эту волну популяризации античной мысли?
— Я только за. Современный человек может найти духовные практики или, говоря словами Фуко, практики себя не только в дзэн-буддизме или других восточных учениях. Античная философия несет более привычные для нас практики себя, в том числе стоические и эпикурейские, известные нам через литературную традицию.
Ведь если современный человек не проваливается в религиозные формы практик себя, то какой у него выход? Ему нужно пробовать себя в тех практиках, которые не предлагают всей этой диалектики веры, ритуала, таинства, трансцендентного мира, загробного спасения. В этом смысле те же самые стоики или эпикурейцы, конечно, могут нам многое предложить. Прекрасно, если та или иная фраза Эпиктета или Эпикура вызовет попытку построить жизнь более рационально, направить ее по пути совершенства.
Платон — особый случай. Это гений, а гений, как говорит Гете, сам ничему не учит — он учит просто самим фактом своего бытия. А стоики, например, учат тому, что мы не отдельные индивиды, которые могут делать, что заблагорассудится, а должны мыслить себя частью дружеских, семейных и политических союзов, чтобы не поубивать друг друга. Напрасно учат, как показывает опыт последних лет, но тем не менее. Эпикурейцы учат интимности дружеского общения, естественным установкам, вниманию к своей чувственной жизни, к отношению наслаждения и разумения.
Адо показал, что эллинистическая философия хорошо поддается духовно-практической интерпретации, в рамках которой ее теория оказывается неким преломлением изначальных практических установок. Очень долго история античной философии, начиная от досократиков и вплоть до неоплатоников, изображалась как прогрессия теоретического разума. Адо одним из первых продемонстрировал, что эта теоретическая рефлексия неразрывно связана с формами жизни, интерес к которым начал пробуждаться еще в конце XIX века, во многом под влиянием Ницше.
Конечно, Адо очень мало сказал о досократиках, потому что мы практически ничего не знаем про те формы жизни, в которых осуществлялась досократическая мысль. Тем не менее сам перенос акцента с теоретического на жизненно-практический — это великое достижение. Оно показывает, что античная философия — это не только история аргументации, как в аналитической философии, или история теоретического разума, как в гегельянской или позитивистской философии. Философское бытие в античности этим не исчерпывается. Когда мы открываем Лукиана, мы видим, что быть философом — это прежде всего принадлежать к некоторой социальной практике: посещать такую-то школу, платить деньги в конце месяца, участвовать в симпосиях, в определенных эротических практиках и так далее. Без всего этого античной философии не будет.
