Оглавление:
Эскапизм, соблазн и галлюциноз: история русской нарколитературы от Гоголя до Пепперштейна
Искусство, как и некоторые вещества, изменяет сознание. На протяжении последних полутора столетий множество литераторов пытались перекинуть мостик от одних изменений к другим, описывая свой и чужой психоделический опыт. Историк неподцензурной литературы Денис Ларионов рассказывает о том, что русскоязычные писатели думали и писали о наркотиках.
Интенсивное «освоение» наркотиков литературой начинается в эпоху романтизма, для которого мир фантазии играл основополагающую роль. Тексты литературного романтизма сегодня кажутся реализованной (пусть и на бумаге) грезой, религиозного или мистического происхождения: чтобы убедиться в этом, достаточно изучить «Песни Невинности и Опыта» и поэмы Уильяма Блейка или роман «Генрих фон Офтердинген» Новалиса. В 1822 году выходит автобиографическая «Исповедь англичанина, употребляющего опиум» Томаса де Квинси — один из первых текстов, в котором наркотик воспринимается не только как медицинский, но и как культурный феномен. А через тридцать лет выходит произведения Шарля Бодлера о гашише, в котором он — как и романтики, но уже на новом историко-культурном витке — обсуждает фантазмический потенциал наркотика, способность расширять представление о реальности (не умалчивая и о негативных сторонах употребления).
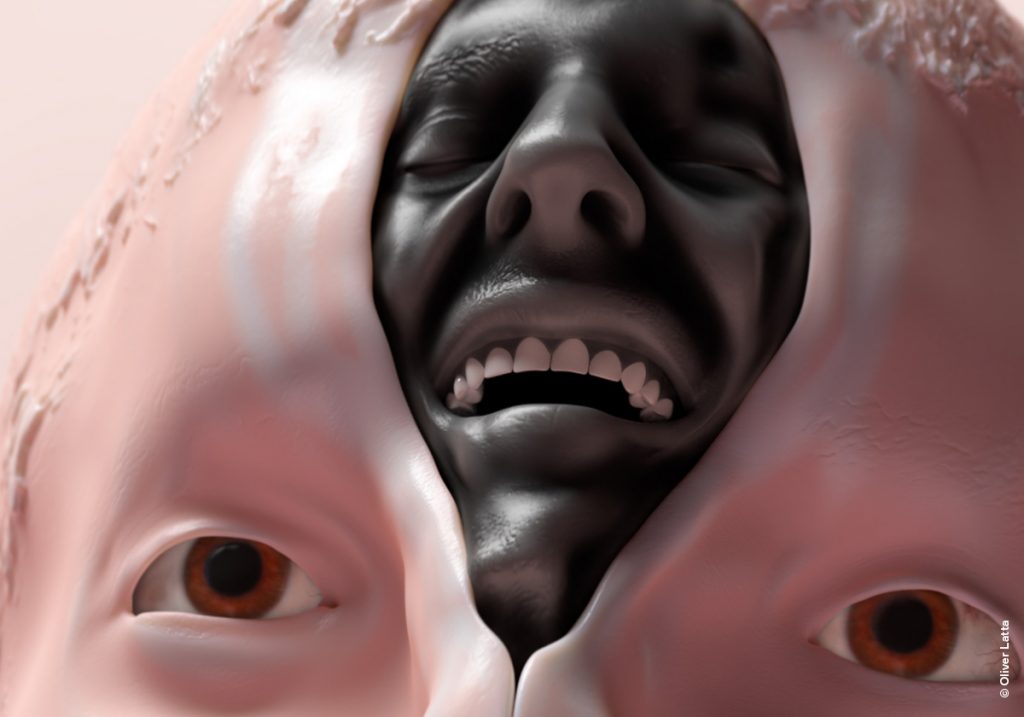
Гашиш Серебряного века
В русской литературе тема наркотиков робко появляется в середине девятнадцатого столетия. В качестве примеров часто приводят судьбу художника Пискарёва в «Невском проспекте» Н. В. Гоголя или не бросающееся в глаза употребление (с лечебными целями) Анной морфия в романе Толстого «Анна Каренина». Впрочем, во второй половине XIX века было издано и такое необычное произведение, как поэма Арсения Голенищева-Кутузова (1848–1913) «Гашиш» (1875), где в отчетливо ориенталистском контексте (подзаголовок поэмы — «Рассказ туркестанца») возникает образ наркотика как средства для «спасения от тягот земных», предназначенный для маргинальных слоев населения, чью жизнь еще не изменила цивилизация. Но, несмотря на идеологическую направленность поэмы (граф Голенищев-Кутузов всегда был монархистом), в ней едва ли впервые столь подробно описывается действие наркотического средства. В дальнейшем эту тему развивает Иннокентий Анненский (1855–1909), для которого «алкоголь или гашиш» — одновременно условие п(р)оявления истинной сути бытия, но и неотъемлемая деталь отталкивающего «трактира жизни»:
Вкруг белеющей Психеи
Те же фикусы торчат,
Те же грустные лакеи,
Тот же гам и тот же чад...Муть вина, нагие кости,
Пепел стынущих сигар,
На губах — отрава злости,
В сердце — скуки перегар...
Гораздо дальше примерного чиновника, директора гимназии Иннокентия Анненского, пошло следующее поэтическое поколение поэтов-символистов — прежде всего в лице Валерия Брюсова (1873–1924), для которого наркотик — главным образом, морфий — становится уже не только показателем принадлежности к избранным представителям поэтической богемы, но и своего рода медиатором между миром пошлой повседневности и надмирной стихией абсолютных представлений.
В стихотворении под эпиграфом уже упоминавшегося выше английского писателя и опиомана Томаса де Квинси, Брюсов сравнивает морфий с Соблазнителем, после чего достаточно точно описывает приход, применяя символистскую поэтическую лексику: здесь есть и тело, погруженное «в истому пламенной реки», и благодарность за обостренье зрения, просветление слуха... В общем, «ты дал полет, ты дал упор, ты пламя мне разлил по жилам».
В другом, также известном стихотворении, Брюсов славит пункты розничной торговли еще не вполне запрещенными препаратами:
Твой верный друг — аптека
Сулящая гашиш, эфир, морфин.
О яды сладкие, дарующие благо
Преображенья! Вкрадчивая влага,
Вливающая силу и мечты!
И, в образе ином, не одинок ты,
И в Книге Мира видишь между строк ты
Неведомую людям красоту.
В реальности же всё было не так радужно: пристрастившись к систематическому употреблению морфия в период романа с писательницей Ниной Петровской, после тяжелейшего разрыва с ней он остался морфинистом на всю жизнь. Поэт Жорж Дюамель, с которым Брюсов несколько раз встречался в Париже, вспоминал, как тот унижался перед ним («я стану на колени и буду валяться у вас в ногах»), выпрашивая у него рецепт на покупку морфия (Дюамель был тогда практикующим врачом). Всё это не мешало Брюсову быть виртуозным разрушителем чужих жизней и надменным лидером важнейшего для XX века литературно-философского направления: в мемуарном эссе о нем хорошо его понимавший Владислав Ходасевич пишет, что «он любил литературу, только ее. Самого себя — тоже только во имя ее. Воистину он свято исполнил заветы, данные самому себе в годы юношества: «не люби, не сочувствуй, сам лишь себя обожай беспредельно» и — «поклоняйся искусству, только ему, безраздельно, бесцельно».
***
В поэме «Подземное жилище» Валерий Брюсов описывает место, где можно найти любые наркотические средства: «морфин, и опий, и гашиш, эфир и кокаин». Несмотря на фантазийную подоплеку поэмы, Брюсов достаточно подробно перечисляет вещества, имевшие хождение в среде деятелей Серебряного века. В период Первой мировой войны особую популярность приобретает кокаин, на волне которой одну из лучших своих песен об «одинокой глупой девочке, кокаином распятой в мокрых бульварах Москвы» сочиняет шансонье Александр Вертинский (1889–1957). Но все-таки дорогой кокаин могли позволить себе лишь немногие: среди них — «шикарные дамы полусвета, иногда высшее офицерство, обеспеченные представители богемы». Менее обеспеченные работники журналистского и поэтического цеха довольствовались более дешевым гашишем: уже в эмиграции Георгий Иванов вспоминал свой bad trip от «толстой папиросы, набитой гашишем», после которого он больше никогда не прикасался к наркотикам (хотя словам лукавого сплетника Иванова не всегда можно верить). В стихотворении Игоря Северянина (1887–1941) «Гашиш Нефтис» затяжка дурманящим дымом является лишь поводом для очередной многословной фантазии поэта:
Ты, куря папиросу с гашишем,
Предложила попробовать мне, —
О, отныне с тобою мы дышим
Этим сном, этим мигом извне.
Голубые душистые струйки
Нас в дурман навсегда вовлекли:
Упоительных змеек чешуйки
И бананы в лианах вдали.
Писки устрицы, пахнущей морем,
Бирюзовая теплая влажь...
Олазорим, легко олазорим
Пароход, моноплан, экипаж!
А близкий к футуризму поэт Венедикт Март (1896–1937) в стихотворении «В курильне» со знанием дела пишет о курильщиках опиума, способных во время измененного состояния сознания переживать видения, животную страсть и т. д.:
Мак, точно маг-чаротворец багровый,
Явь затемняет обманом дурмана,
Чадные грезы тревожит и будит.
В тумане революции
В рассказе Виктора Пелевина «Хрустальный мир» события, непосредственно предшествовавшие Октябрьской революции, показаны словно бы в наркотической дымке, в которой пребывают обдолбанные кокаином и героином юнкера Николай и Юрий, стоящие в карауле недалеко от Смольного дворца. В первые послереволюционные годы наркотическая тема в литературе продолжает распространяться: как и сами наркотические вещества, становящиеся достоянием всё более широких слоев населения. В рассказе Михаила Булгакова (1891–1940) «Морфий» показана жизнь и гибель доктора Сергея Полякова, в конечном итоге покончившего с собой. Как и сам Булгаков, Поляков принимал морфий, чтобы справиться с многочисленными болями, но в итоге получил зависимость, от которой не мог избавиться (сам же Булгаков всю жизнь страдал невыносимыми мигренями, которые передал Понтию Пилату в «Мастере и Маргарите»). На сегодняшний взгляд булгаковский кажется довольно схематичным и моралистичным, что преодолел в своей экранизации «Морфия» Алексей Балабанов, сделав судьбу доктора Полякова входом в XX век.
В первые послереволюционные годы будущий поэт и прозаик Константин Вагинов (1899–1934) знакомится с секс-работницей Лидой, ставшей затем героиней одного из лучших его стихотворений. Постепенно Лида приучает молодого человека к кокаину, который они приобретают в общественном сортире на Невском, причем Вагинов не жалеет на это дело редких монет из своей коллекции: «Нерукотворный поэт я люблю длинные дворницкие, где кашу едят и кокаин нюхают», писал он в «Звезде Вифлеема», одном из первых своих произведений.
В конечном итоге Вагинов достаточно крепко присел на кокаин, и от верной гибели его спас срочный призыв в Красную армию и участие в гражданской войне в Сибири и на Урале.
После возвращения в Ленинград в 1921 году уже не вполне здоровым человеком (туберкулез) Вагинов горько иронизирует над стремлением персонажей — например, своего комического альтер-эго, Неизвестного Поэта из романа «Козлиная песнь» — отправляться «во ад бессмыслицы, во ад диких шумов и визгов, для нахождения новой мелодии мира». Причем средствами «изолировать себя и спуститься во ад» Вагинов называет более привычные «алкоголь, любовь, сумасшествие», но уже не наркотики. В 1934 году Константин Вагинов умирает, в этом же году в парижском эмигрантском журнале «Числа» был опубликован роман Марка Агеева (1898–1973) «Роман с кокаином», который так же, как и Булгаков, вывел наркотическое вещество в заголовок: хотя кокаин здесь играет второстепенную роль и, по сути, является лишь последней каплей в деле морального падения и физической деградации главного героя, юноши по имени Вадим Масленников, издевающегося над своей старой матерью и стремящемся передать кому-нибудь свое венерическое заболевание. Напоминающий сразу всех лишних людей русской классической литературы, Масленников рассчитывает с помощью кокаина заглушить боль от тяжелейшего разрыва с возлюбленной. Непосредственно кокаину в романе посвящены две последние главы: в одной из них Агеев со знанием дела описывает ритуал группового употребления наркотика, а также ощущения Масленникова от него, а в последней — представляет путаные и довольно примитивные мысли героя в состоянии «отходняка».
Но самое интересное мы узнаем их эпилога романа: оказывается, спрятавшись в наркотической дреме, Масленников прозевал все важные исторические события, а в 1919 году покончил с собой, узнав, что его презренный однокурсник стал важным чиновником при большевиках.

Авторство романа Агеева приписывали самым разным писателям и поэтам, в диапазоне от Владимира Набокова до Бориса Поплавского (1903–1935), который написал своих первые стихи о дурманящем действии гашиша еще в 1918 году в Харькове (ему было 15 лет!), когда всем было, мягко говоря, не до воображаемых миров. После эмиграции Поплавского начались опыты с другими, более серьезными веществами: важнейшей целью поэзии он считал выход в экстатическое, трансцендентальное измерение, для которого были хороши все средства, в том числе и запрещенные. К тому же Поплавский презирал логику обыденного мира и довольно быстро обратился к трансгрессивным практикам письма. Его «Автоматические стихи» хоть и написаны с оглядкой на сюрреализм, но преследуют цели более масштабные, не сводящиеся только к освобождению сознания.
В 1935 году Поплавский погибает от овердоза, и это трагическое событие многие считают концом символистской эпохи и началом новой, так сказать, экономики галлюцинаций.
Мир двигался по направлению к великой психоделической революции, а до случайного синтезирования LSD Альбертом Хофманом оставалось какие-то восемь-десять лет.
Повседневный парад идиотов
Можем ли мы говорить о какой-то специальной галлюцинаторной оптике в официальной советской поэзии или прозе? Вряд ли, ведь галлюцинация не может быть частью коллективного аффекта или представления, она всегда индивидуальна. В 1944 году поэт, математик и диссидент Александр Есенин-Вольпин (1924–2016) заканчивает стихотворение «Морфин», в котором воспроизводит и, по сути, подытоживает романтическую традицию восприятия наркотика как пропуска в мир необычайных галлюцинаций и фантазий (неотделимых от репрессивного медицинского дискурса — «действие» стихотворения Есенина-Вольпина происходит на больничной койке):
...И вот в крови бежит струя морфина,
Я вижу стаи синекрылых птиц...
Мои глаза, как в бурю бригантина,
За ними вслед несутся из глазниц...
Паркетный пол дрожит как паутина.
Я слышу грохот... боги пали ниц!
Я — царь вселенной!... Мне приятно, Инна,
Мне так приятно, словно в сердце — шприц!
В начале 1950-х, на излете сталинского правления, в Ленинграде появляется близкий художникам «арефьевского круга» поэт Роальд Мандельштам (1932–1961), стремившийся заговорить на языке Серебряного века (главным образом, Александра Блока), языке безжалостно яркого видения, галлюциноза, благодаря которому обескровленный блокадой и многолетними репрессиями Ленинград становился похожим одновременно на предреволюционный Петербург, довоенный Париж и Танжер эпохи Пола Боулза:
Новая Голландия
Запах камней и металла,
Острый, как волчьи клыки,
— помнишь? —
В изгибе канала
Призрак забытой руки,
— видишь? —
Деревья на крыши
Позднее золото льют.
В Новой Голландии
— слышишь? —
Карлики листья куют.
И, листопад принимая
В чаши своих площадей,
Город лежит, как Даная,
В золотоносном дожде.
Мандельштам умер очень рано, не дожив и до 30 лет: тяжело больной от рождения, он жил практически впроголодь и за пару лет до смерти пристрастился к морфию, которым снимал болевой синдром. В те же 1950-е годы поэт Генрих Сапгир (1928–1999) пишет стихотворение «Кира и гашиш», вошедшее в его первую самиздатовскую книгу «Голоса». В отличие от Мандельштама, Сапгир делает наркотик катализатором социального карнавала, советского «парада идиотов» (так называется одно из самых известных стихотворений сборника «Голоса»):
Ура, китайские эмоции!
Продолжение — в милиции
Дело пахнет гашишом.Гейша
Пляшет нагишом
На столе
Начальника паспортного стола!Все тонет в волнах гашиша...
Лишь
Фигура Иодковского
Возвышается на площади Маяковского.
В 1960-е годы пишет свои лучшие стихи важнейший неподцензурный поэт — Леонид Аронзон (1939–1970). Многие его друзья и биографы пишут об интересе Аронзона к психоактивным веществам: главным образом, растительного происхождения. Возникают они и в его поэтических текстах — как причины метаморфоз, которые претерпевает как поэт, так и окружающий его мир:
Натощак курю гашиш
О иога анаши!
Какой простор для всяких дум!
Сам счастлив, для других угрюм.
От великих мыслей спасу
нету лексики запасу.
Минометы этих мыслей
внутри себя толкают выстрел.
Очарован той картиной,
кто не знает с миром встреч:
одиночества плотиной я свою стреножу речь.
Кто стоит перед плотиной,
тот стоит с прекрасной миной:
рои брызг и быстрых радуг
извергают водопады.
Я курю, курю и стражду:
анаша — источник жажды,
жажда — признак: где-то боль.
Я бы крови человека
выпил жуткую аптеку,
в остальных напитках соль.
Потому с вопросом где бы?
я хожу, хожу по небу
но уж много, много лет
в Петербурге неба нет
<…>
Со временем Аронзон отходит от наследующих обэриутам хулиганских экспериментальных текстов в сторону кристально ясных стихотворений, посвященных описанию Рая, переживаемому как грандиозная галлюцинация, существующего параллельно с обыденным миром и практически никак с ним не соприкасающемся:
Как хорошо в покинутых местах!
Покинутых людьми, но не богами.
И дождь идет, и мокнет красота
старинной рощи, поднятой холмами.И дождь идет, и мокнет красота
старинной рощи, поднятой холмами.
Мы тут одни, нам люди не чета.
О, что за благо выпивать в тумане!Мы тут одни, нам люди не чета.
О, что за благо выпивать в тумане!
Запомни путь слетевшего листа
и мысль о том, что мы идем за нами.
В Москве же в это время пишет свои лучшие стихи Евгений Головин (1938–2010), более известный как один из главных идеологов российского традиционализма. Для него наркотик — и абстрактная сущность, и вполне конкретное вещество — был и маркером принадлежности к контркультуре (не столько советской, сколько мировой), и способом выхода в трансцендентное измерение, который был возможен только в случае полнейшего растворения в опасной и отталкивающей стихии повседневности:
Сказала мне мама — Трефовая дама,
что хватит мне грабить и пить,
а дождик моросил, я дело забросил
и начал я планчик курить.Ах планчик, мой планчик, зелёные травы,
коричневые тополя —
ах планчик, мой планчик, ты лучше марафы —
ах, планчик, ты радость моя!Но время приспело, по старому делу
накрыли фатеру мою,
пришли ко мне менты: давай документы —
а я им тихонько пою:Ах планчик, мой планчик, зелёные травы,
коричневые тополя —
ах планчик, мой планчик, ты лучше марафы —
ах, планчик, ты радость моя!
Позднее Елена Шварц (1949–2010) напишет знаменитое стихотворение «Произвожу наркотики (иногда)». В нем вещества уже не являются частью стиля жизни или маркером определенной субкультуры. Взаимодействие с наркотиком оказывается сродни фантазированию, сочинению поэтического текста и т. д. Можно сказать, что для Шварц наркотиков не существует, так как человек способен сам «коноплю в себе собирать», то есть посредством определенных логических или эмоциональных практик быть проводником того или иного состояния:
У меня внутри — в средней пазухе —
Не одна конопля —
Там колышутся, переливаются
Маковые поля.
Там средь алых есть бледно-розовые —
Вот у них, родных, самый сладкий сок.
Я натрусь, наемся — и с эскадрильей стрекозовой
Уношусь на Восток.
У меня в крови есть плантация,
Закачается золотой прибой,
Что-то взвоет во мне ратной трубой,
Вдохновение поджигается,
Тягу к смерти приводит с собой.
На мозговых вращаясь колесах,
Мелется, колется наркота
И железой растворяется слезной,
И лежу я на облаке в росах,
А подо мной — высота, высота.
Чифир и безумие концептуализма
В 1970-1980-е годы свои центральные произведения пишет еще один яркий представитель советской неподцензурной литературы, Леон Богданов (1942–1987). В его написанных в форме дневника-(cамо)исследования «Заметках о чаепитии и землетрясениях» (опубл. в 2002) крепко заваренный чай — приобретающий наркотические свойства чифир — оказывается медиатором, способным соединить сугубо приватный мир увлеченного Востоком интеллектуала и тревожный, терпящий землетрясения и прочие бедствия мир, о котором он узнает по радио. Впрочем, Богданов не ограничивается только чифирем: в русской литературе нет вторых таких «Заметок...», где с такой нежностью и любовью писалось бы о марихуане.
В 1987 году Андрей Монастырский (1949) заканчивает роман «Каширское шоссе», имеющий важнейшее значение для последующего развития отечественной психоделической литературы. Повествователь (максимально приближенный к автору — по сути, это он и есть) переживает просветление, после чего начинает воспринимать скучный позднесоветский мир несколько иначе. Все незначительные события, происходящие с ним и его близкими дома, на улице или в психиатрической клинике, воспринимаются им в смещенной, паранойяльной логике. Важно, что герой романа Монастырского не принимает никаких веществ, разгоняя свое религиозное чувство за счет, так сказать, собственных ресурсов: посредством чтения, медитации и других духовных практик.
Как и Елена Шварц, Монастырский показывает, что «психоделика» — как и «безумие» — одни из форм культурного опыта, который каждый/каждая может найти в себе, не прибегая к помощи внешнего мира.
Одним из немногих известных авторов, с конца 1980-начала 1990-х годов серьезно и систематически работающих с западной психоделической оптикой, стал Павел Пепперштейн (1966), написавший первые рассказы еще в юности, позднее вошедшие в его первый сборник «Диета старика» (1998). В его ранних рассказах подчеркнуто невинный взгляд повествователя направляется на странные мифологические сюжеты, неожиданно вскрывая в них непривычное или запретное, табуированное содержание (рассказ «День рождения Гитлера»). Часто рассказы Пепперштейна выстраиваются как бесконечные зеркальные отражения персонажей, являющихся лишь дополнением к вещам и предметам (рассказ «История одного зеркальца»). При этом тексты Пепперштейна легки и как бы нарочито незавершены, словно бы намекая на необязательность точки зрения персонажа или автора: культурное исследование здесь происходит в спокойном режиме, без ненужного напряжения и обострений. В некотором роде это относится и к пепперштейновскому opus magnum — двухтомному роману «Мифогенная любовь каст» (1999–2002), в котором излагается сказочно-альтернативная, жестко-психоделическая версия Великой Отечественной войны.

В 1992 году выходит один из самых бескомпромиссных текстов современной русской литературы, роман «Змесос» Егора Радова (1962–2009), о трагической судьбе которого периодически напоминают центральные телеканалы. Наркотик — героин — в романе Радова получает разные названия, попутно позволяя автору выстроить почти мифологическую поэму о неразличении реального и виртуального миров и о бесконечных метаморфозах, которые претерпевают весьма условные персонажи. Также роман Радова можно рассматривать и как социальную антиутопию, показывающую опасный наркоманский быт. В отличие от утонченного Пепперштейна, прививающего русской литературе западный психоделический подход, Радов действует нарочито грубо (некоторые критики называли его «диким» автором), выявляя галлюцинаторную природу буквально всего, с чем сталкивается: недаром один из его программных текстов называется «Искусство — это кайф».
Последователями Радова можно считать Баяна Ширянова и Виктора Пелевина (1962). Но если последний стал всемирно известным автором, сделавшим своей главной темой манипуляцию (в том числе и при помощи наркотических веществ) с различными образами реальности в эпоху позднего капитализма, то Баян Первитинович Ширянов (он же Кирилл Воробьев, 1964–2017) стремился к сочинению заведомо нечитаемой прозы, с невыносимым натурализмом описывающую быт и нравы винтовых наркоманов. Его главным текстом был (и остался) роман «Низший пилотаж» (1996–1998), который, по словам Антона Носика, «посвящен варке винта (эфедринового производного) и его внутривенному употреблению с последующим впадением употребителей в полное убожество, ничтожество, нирвану, эйфорию, амнезию, фригидность, приапизм и деменцию. Роман физиологичен до рвоты, изобилует ненормативной лексикой, рецептами изготовления и употребления веществ, сценами половой близости и бессмысленной жестокости (в том числе и садопедофилического толка)...» Сначала «Низший пилотаж» был отвергнут почти всеми издательствами, а после публикации в издательстве Ad Marginem запрещен к продаже в ряде московских книжных магазинов. То же самое случилось и с литературными премиями (сетевыми и офлайновыми), которые спешно отказывались номинировать роман Ширянова-Воробьева почти на все номинации. Единственным исключением стала премия «Тенета», один из членов жюри которой, великий фантаст Борис Стругацкий, резко осудил запрет романа и сравнил ее с язвой на симпатичном лице: «безобразная, страшная, но внимание привлекает — глаз не оторвать».
В разговоре о прозе 1980–90-х годов, нельзя не упомянуть Владимира Сорокина (1955), для которого наркотическое видение, психоделическая оптика — не личностный выбор и попытка «гибели всерьез», но лишь одна из возможных литературных масок, которую автор волен использовать для тех или иных нужд. Они могут производить практически любой эффект, вплоть до сильнейших исторических фантазмов (как в романе «Голубое сало»), главное не забывать, что это всего лишь буквы на бумаге. В известной пьесе Сорокина Dostoesky-trip (1997) классики мировой литературы XIX и XX веков распространяются и употребляются в виде небольших доз, вызывающих измененное состояние сознания, похожее на действие стиля того или иного автора:
М3: На чем он торчит?
Ж1:На Толстом.
М1 (злорадно): Вот уж дрянь, не приведи вляпаться! Толстой! (смеется). Как вспомню — мороз по коже!
М2: Тебе не понравилось, друг?
М1: Не понравилось?! (Смеется). Да как это может понравится? Толстой! Года три назад мы с дружбанами нарыли немного бабок, ну и в Цюрихе неплохо оттянулись: сначала Селин, Клоссовски, Беккет, потом как всегда помягче: Флобер, Мопассан, Стендаль. А назавтра я проснулся уже в Женеве. А в Женеве ситуация совсем другая, чем в Цюрихе.
Эпоха некроинфантилов
В 2003 году выходит статья поэта и филолога Данилы Давыдова «Мрачный детский взгляд: „переходная“ оптика в современной русской поэзии»: в ней была предпринята одна из первых попыток концептуального описания поэзии 1990-х годов. Важной ее чертой Давыдов называет некроинфантильность, мотивы которой возникают у очень многих авторов, дебютировавших в 1990-е годы: причем детство и смерть воспринимаются не только как точки биографии, но как состояния, в которые ввергает себя человек, отказывающийся взрослеть. Очевидно, что тут не обойтись без психоделической оптики, к которой обращается, например, Ирина Шостаковская (1978), в поэтических текстах которой мы сталкиваемся с опытом не-взросления, не-участия в делах мира, чья угрожающая механика переживается как способный навсегда расчеловечить кошмар, своего рода bad trip:
«Девочка из города/ДискотекаБарбитураты/Белоруссия/Белоруссия/Я знаю есть такая страна Белоруссия/Это запад/Меня преследовали четыре зомбака».
Впрочем, психоделический опыт для Шостаковской — лишь один из возможных, более-менее случайным образом переплетающийся с другими способами описания мира (от обывательского до возвышенного), которым находилось место в культурных метаморфозах 1990-х годов:
Белая кость, голубая кровь
Маккена, Берроуз, Гроф
Слепые кутята, паромщик едва гребёт
Последний обол за щекой. Речка Йод.
Эсхил наболтал ерунды. Я вернусь к тебе
Достану чего-нибудь и вернусь к тебе
В кармане досадный излишек уплочено газ и свет
Упрочено. Этот за стенкой, видать, поэт
Привыкнешь — не привыкать.
Десятый год мурыжит одну строку.
Сизифом звать.
Скоро настанет весна — кидалово и амнезия
Бестолковая Лета выходит из берегов
Стикс меняет окраску и воняет бензином
Маккена, Берроуз, Гроф.
Параллельно с Ириной Шостаковской в Израиле писала Анна Горенко (Карпа) (1972–1999), в качестве псевдонима взявшая настоящую фамилию Анны Ахматовой. Тексты Горенко (порой неотделимые от ее повседневной жизни) оказались точным и пронзительным свидетельством о переходности как основополагающем свойстве жизни современного человека. Преодолевавшая границы между странами и жанрами, Горенко сделала состояние между жизнью и смертью одной из центральных своих тем:
Тело за мною ходило тело
Ело маковый мед
А теперь довольно, мне надоело
Я во власти других заботЯ в зубах сжимаю алую нить
К ней привязаны небеса
Я всё выше, выше желаю плыть
Я хочу оставаться самГильотина света над головою
И мне дела нету до нас с тобою
Пусть они в разлуке, в беде навеки
Я сегодня сам и мосты и реки
Я огонь и трубы, вода и мыло
Я что хочешь, лишь бы тебе польстилоЯ Ариадна скалою у грота
В зубах нитка, во рту монетка
Я себе Ариадна, Тесей и Лота
Я голубка, детка
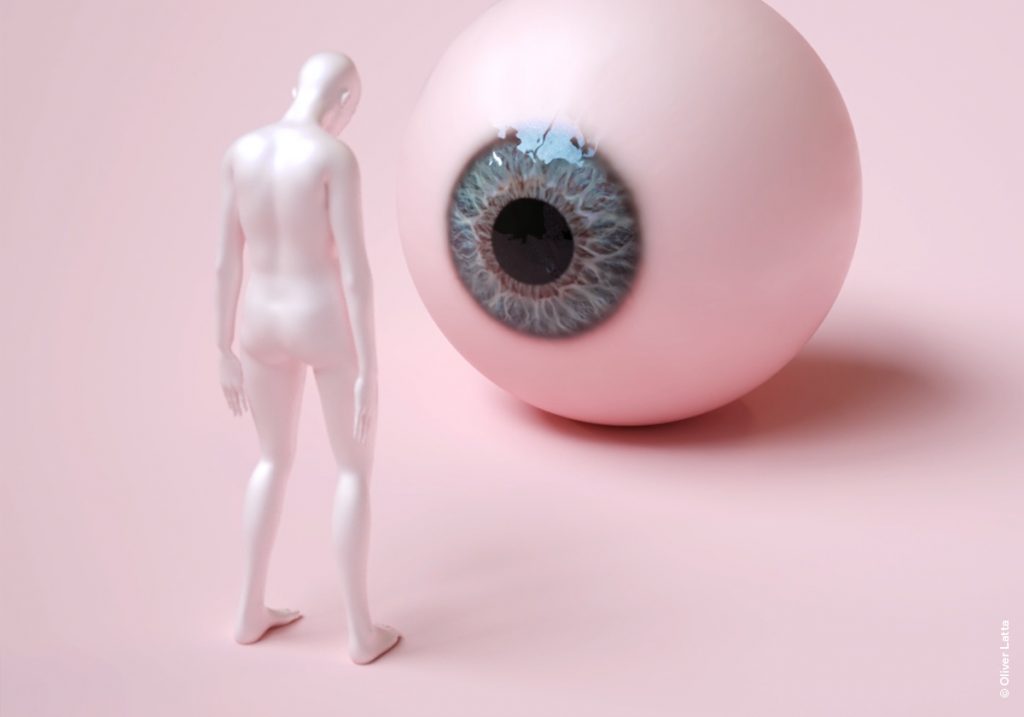
В поэтических текстах Ярослава Могутина (1974), о котором мы уже говорили ранее, употребляемые с рекреационными или стимулирующими целями наркотики — это часть интернациональной гедонистической гей-субкультуры. Но Могутин, как и Брет Истон Эллис и Деннис Купер, находит внутри этой субкультуры элемент безудержного и бескомпромиссного насилия, направленного на создание идеального образа тела СуперМогутина, который мог бы вместить в себя весь космополитичный мир и разработать новейшую антропологию телесности, для которой не только гендерные, но и географические границы не имели бы значения.
В поэтических текстах другого живущего в США русского поэта, Василия Ломакина, воссоздается совсем другая вселенная, мир метафизической подворотни, в которой слой за слоем прогорают черным дымом исторические и культурные сюжеты:
Сто девочек, сто мальчиков
За деньги купишь, хоп
Кровь и печень Эвридики
Слюну и слёзы русских теней
А также:
Лавки «Кофии и чаи»
С котом, с женой-суринамкой
Скуриться на хуй крэком, хоп
Один из циклов Ломакина назван по названию вещества DXM — декстрометорфана — который во всем мире используется как противокашлевое средство, а в РФ введет в список наркотических веществ. Ломакин выстраивает мир величественной галлюцинации на тему Истории Государства Российского, по сути «ад русских теней», ни на секунду не отпускающих давно социализировавшегося в США человека:
Река-глубока, говорил леденец
Сестрица-москвица, я стану кремлец
Аминь, текла река водой
Я стану духами «Красная Москва»
Шанелью мира молодой
Хорошие твои слова!
Говорит сестрице брат —
Вот и злато царских врат
Оригинальный поп венчает нас —
Ветер, гадкий сын утрат
У серого валенки горятУ розового говорят
Аминь, какой рассвет погас!
Заключение
Как видим, за последние два века русскоязычные авторы предложили множество способов работы с наркотической или психоделической оптикой. Наркотики становились непосредственной темой произведений, наркотики становились метафорой Чего-То Большего, наркотики становились средством для размножения реальностей. Нередко всё это было связано с драматическими, а порой и трагическими обстоятельствами в жизни авторов.
Возможно ли сегодня появление Великого Психоделического Автора (или Великого Психоделического Романа)? В принципе да, но возникает вопрос «зачем?». Психоделическая оптика стала частью культурного опыта, одним из возможных взглядов на реальность, не лучше и не хуже любого другого. Она довольно легко воспроизводится на письме, ее наверняка могут генерировать специальные компьютерные программы. Возможно, именно в этой области возможны существенные открытия, направленные как на раздвижение когнитивного горизонта современного человека, так и на доступность и безопасность психоделического опыта, которые разрушили бы его псевдоэлитарность и лишили ореола исключительности.
Настоящая статья не является пропагандой каких-либо преимуществ в использовании отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркосодержащих растений, в том числе пропагандой использования в медицинских целях наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркосодержащих растений, подавляющих волю человека либо отрицательно влияющих на его психическое или физическое здоровье.
