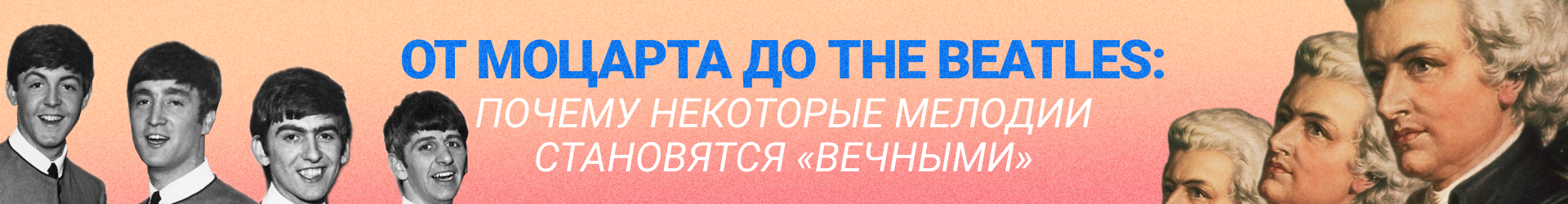Не только Замятин: принудительное счастье, иконостас с вождями революции, полигамия и доносы в советских антиутопиях 1920-х годов
Революционеры-большевики стремились построить рай на Земле. Но не станет ли рай, из которого некуда больше идти, местом гибели человечества и не окажется ли бескомпромиссное стремление к раю страшнее всего, что мы знали до сих пор? Именно об этом задумывались и писали авторы раннесоветских антиутопий. Неудивительно, что некоторые из произведений увидели свет лишь после падения СССР. Литературовед Тимур Хайрулин — о малоизвестных антиутопиях 1920-х.
Человечество всегда рисовало в своем воображении картины счастливого будущего, будь то райский сад, прозрачный фаланстер или цветущие на Марсе яблони. Утопия — это определенный стиль мышления о будущем. Не просто литературный жанр или политическая теория, но универсальная идея, встречающаяся в разных культурах.
В ХХ веке в России произошел «взрыв» утопического воображения, который повлиял на развитие послереволюционного искусства. В 1918 году молодой поэт Николай Тихонов писал:
Мир строится по новому масштабу.
В крови, в пыли, под пушки и набат
Возводим мы, отталкивая слабых,
Утопий град — заветных мыслей град.
Как видим, поэта совершенно не смущала необходимость отталкивать «слабых» в процессе строительства утопического мира. Другое дело, что послереволюционная реальность была далека от желаемого идеала, а коммунизм существовал разве что на страницах газеты «Правда». Литературный жанр утопии становился чрезвычайно удобным способом изобразить обещанное коммунистическое будущее, в котором нет угнетения, голода, частной собственности, болезней, смерти.
Вместе с научно-фантастической утопией в 1920-е рождается и ее двойник — антиутопия, которая предостерегала читателей от слепого теоретизирования, изображая губительные последствия лихорадочной перекройки мира на новый лад.
Говоря об антиутопии, обычно вспоминают творчество Евгения Замятина и его роман «Мы», однако в раннесоветской фантастике были и другие опыты критического изображения «светлого будущего».

Ненужные люди в Сером Шкафу
Одним из первых раннесоветских экспериментов в жанре антиутопии следует назвать творчество Ефима Зозули. Начинавший карьеру в одесских журналах, Зозуля был известен как сатирик, автор гротескных новелл. В 1920-е он совместно с Михаилом Кольцовым возобновил деятельность журнала «Огонек», где печатал фельетоны и рассказы.
В 1918 году он издает сборник «Гибель Главного Города» с одноименным рассказом, в котором повествуется о вымышленном мире, состоящем из двух уровней: Главного Города и Верхнего Города. Между их жителями ведется бестолковая война в форме закидывания друг друга цветами, включения хохочущих рупоров и поджогов библиотек. Те, кто живут наверху, предсказуемо выше по статусу и уровню жизни. У обитателей Главного Города накапливается злоба, им больше не видно неба из-за построенного над головами огромного здания, но учрежденное на скорую руку Министерство Иллюзий выходит из ситуации и создает декорации взамен реальных облаков. В один прекрасный день жители Главного Города устраивают бунт, превращая шаткую архитектурную конструкцию в руины.
За аллегорическими построениями Зозули просматривалась рефлексия над революционными событиями 1917 года: угнетенный класс восстает против несправедливого порядка вещей, но сам же хоронит себя под развалинами старого мира. Любопытно, что в Главном Городе существует особое «Правительство Покорности» (почти министерство правды из оруэлловского романа «1984»), состоящее из Министра Вежливости, Министра Количества, Министра Тишины, Министра Надежд, Министра Иллюзий, Министра Ответственности:
«Главный Город представлял собою зрелище невиданное: люди всех классов, положений и состояний были одинаково чисто и опрятно одеты, причесаны и вымыты, а жилища их стали образцом чистоты и порядка. Репрессии приходилось применять в самом незначительном масштабе. „Правительство Покорности“ проявляло максимум энергии».
Ефим Зозуля, «Гибель Главного Города», 1918
В «Рассказе об Аке и человечестве» (1919) Зозуля куда более прямолинеен. Всё начинается с того, что на городских улицах появляются плакаты, в которых от имени загадочной Коллегии Высшей Решимости (не иначе как ВЧК) сообщается, что граждане должны пройти медицинское и духовное исследования на предмет своей состоятельности. Всех «ненужных» для жизни просят самоустраниться в течение 24 часов, причем критерии, по которым будут отбирать «ненужных», не вполне ясны. В управлении Коллегии стоит Серый Шкаф, хранящий папки с характеристиками «ненужных людей». Председатель Коллегии с библейским именем и диктаторскими наклонностями Ак просматривает эти папки, из требования объективности отмечая красным карандашом излишне строгие формулировки:
«Ненужный № 14741. Здоровье среднее. Ходит к знакомым, не будучи нужен или интересен им. Дает советы. В расцвете сил соблазнил какую-то девушку и бросил ее. Самым крупным событием в жизни считает приобретение мебели для своей квартиры после женитьбы. Мозг вялый, рыхлый. Работоспособности нет. На требование рассказать самое интересное, что он знает о жизни, что ему пришлось видеть — он рассказал о ресторане „Квиссисана“ в Париже. Существо простейшее. Разряд низших обывателей. Сердце слабое. — В 24 часа».
Ефим Зозуля, «Рассказ об Аке и человечестве», 1919
Ак, тщательно изучив дела «ненужных», начинает сомневаться в правильности избранных им методов обустройства социума и потому удаляется из города. Через некоторое время на улицах вновь появляются плакаты, сообщающие о переименовании Коллегии Высшей Решимости в Коллегию Высшей Деликатности:
«С момента опубликования настоящего объявления всем гражданам города разрешается жить. Живите, плодитесь и наполняйте землю. Коллегия Высшей Деликатности вменяет в обязанность особым комиссиям в составе трех членов обходить ежедневно квартиры, поздравлять их обитателей с фактом существования и записывать в особых „Радостных протоколах“ — свои наблюдения. Радостные наблюдения будут сохранены в Розовом Шкафу для потомства».
Ефим Зозуля, «Рассказ об Аке и человечестве», 1919
Ак вновь принимается за изучение информации, но чтение содержимого Розового Шкафа не прибавляет ему веры в человечество, и он опять убегает — на этот раз навсегда — с криками «Резать надо! Резать! Резать! Резать!». Как отмечает исследователь Б. Ланин, «антиутопия — это всегда спор с утопическим замыслом».
У Зозули мы наблюдаем полемику не с самой утопией, но с теми насильственными методами, которыми она воплощается в жизнь.
Послереволюционное десятилетие в России характеризовалось ожесточенной борьбой: Гражданская война, трибуналы, красный террор. Рай завоевывался штыками. Именно захлестнувший страну опыт насилия и пытался осмыслить Зозуля. До известной степени в «Рассказе об Аке и человечестве» он предвосхитил «прозрачный» мир замятинского романа «Мы», в котором за каждым членом общества ведется постоянный надзор.
Коммунизм как религия
Еще одним автором, погруженным в антиутопические кошмары и переживания, был Михаил Козырев, входивший в литературную группу, образованную при московском издательстве «Никитинские субботники» (в этом издательстве выходили произведения Андрея Белого, Вячеслава Иванова, Сигизмунда Кржижановского). Сегодня имя Козырева практически забыто, но в 1920-е его сатирические рассказы и фельетоны были довольно популярны. За фантастические сюжеты и гротескную образность его прозвали «русским Свифтом» (в 1936 году, кстати, он написал антифашистскую повесть «Пятое путешествие Лемюэля Гулливера»). Кроме того, Козырев был автором городских романсов «Называют меня некрасивою», «Недотрога» и др.
В 1925 году он написал сатирическую повесть «Ленинград» с фантастическим флером, который, впрочем, лишь маскировал явную критику в адрес большевиков. Козырев использовал повторяющийся в фантастической литературе 1920-х прием: с помощью гипноза он усыпил своего героя — рабочего-революционера, попавшего в тюрьму в 1914 году за участие в забастовке, — и воскресил его уже в 1951-м, после победы большевиков и переименования Петрограда в Ленинград. Главный герой, не планировавший проспать так долго, неожиданно для себя попадает в мир реализованной утопии: его встречают ничего не говорящие ему названия улиц («ул. 25-го Октября», «Город-сад им. Семашко»), воздушные паровозы, новые виды коммуникации. Перед ним проносятся футурологические картинки — сокращение рабочего дня до двух часов, диковинные приборы, которые позволяют, «сидя в своей комнате, не только слушать концерт, но видеть артистов и даже разговаривать в антрактах со знакомыми». Всё как в лучших романах Уэллса, когда путешественник во времени ощущает чуждость неизвестного ему мира и пытается примерить на себя новые ценности и порядки.
Разумеется, козыревский персонаж поначалу восхищается благами мира будущего, но довольно быстро за лакированным фасадом начинают проступать уродливые черты: тотальная цензура и слежка, социальное неравенство, фиктивные суды, регламентация интимной жизни, догматизм.
Пожалуй, самое крамольное в повести Козырева — это гротескное сравнение адептов коммунизма с религиозными фанатиками. Политические ритуалы образца 1951 года выглядят в глазах героя подобием лютеранского богослужения, а зубрежка политграмоты напоминает о заучивании церковного катехизиса:
«Клуб находился через дорогу в помещении бывшей церкви. Крест с церкви был снят, колокола тоже, а внутри рядами стояли стулья, как в театре. Но что меня удивило, так это иконостас. Иконостас сохранился в полной неприкосновенности: иконы с золотыми и серебряными окладами, золоченые хоругви… Неужели не могли убрать или хоть завесить, подумал я. Но ближе вглядевшись в лица святых, я не узнал ни одного, и что более всего поразило меня, так это современные костюмы изображенных на иконах людей.
Я тотчас же сказал об этом Витману.
— Что вы, — удивился он, — да ведь это портреты вождей революции».
Михаил Козырев, «Ленинград», 1925

Стоит ли говорить, что главный герой не выдерживает экзамена «нового общества» и, более того, начинает подбивать всех жителей на восстание против псевдопролетарской власти, однако терпит крах.
Козырев рисует неутешительную картину: революция породила новый класс угнетателей — бюрократизированную номенклатуру, которая утратила связь с народными массами и при помощи тотального контроля охраняет собственную власть.
Писать в 1925 году такую откровенно антибольшевистскую повесть было делом самоубийственным. Рукопись долгие годы пролежала в столе и была опубликована только в 1990-е. Автора повести ждала печальная участь — в 1941 году Козырева арестовали и спустя год расстреляли в саратовской тюрьме.
«В вашем поведении мы заметили нечто странное, заставляющее нас сомневаться в вашей нормальности или, что еще страшнее, в вашей принадлежности к рабочему классу. Того, что мы заметили в вашем поведении, не случалось уже двадцать лет в нашей практике, — продолжал он и, понизив голос до шепота, добавил: — вы обнаружили наклонность к самостоятельному мышлению в области тех вопросов, которые подлежат компетенции высших органов государства…»
Михаил Козырев, «Ленинград», 1925
Рай как конец истории
Иосиф Бродский в своем послесловии к повести Андрея Платонова «Котлован» писал, что «идея Рая есть логический конец человеческой мысли в том отношении, что дальше она, мысль, не идет; ибо за Раем больше ничего нет, ничего не происходит. И поэтому можно сказать, что Рай — тупик». Поставить перед обществом конечную, абстрактную цель — хоть бы и достижение коммунизма — это тоже своего рода приглашение в тупик. Уже у Замятина в романе «Мы» присутствует мотив конца истории, связанный с тем, что в Едином Государстве удалось добиться всех мыслимых благ и победоносно перешагнуть через утопический горизонт. Как говорит один из замятинских героев, «крылья — чтобы летать, а нам уже некуда — мы прилетели…».
«Я спрашиваю: о чем люди — с самых пеленок — молились, мечтали, мучились? О том, чтобы кто-нибудь раз навсегда сказал им, что такое счастье — и потом приковал их к этому счастью на цепь. Наш долг — заставить их быть счастливыми».
Евгений Замятин, «Мы», 1921
Философские опасения Замятина по поводу возможности тотального подчинения общества абстрактной доктрине разделял его коллега по «Серапионовым братьям», писатель и драматург Лев Лунц. Его антиутопическая пьеса «Город Правды» (1923) посвящена проблеме понимания революции как непрерывного процесса. Написанная за год до смерти автора, она так и не была поставлена на сцене. В письме к Корнею Чуковскому Лунц, находившийся на лечении в Гамбурге, сообщает, что «написал пьесу, страшно умную и плохую».
В центре пьесы отряд безымянных, истощенных голодом солдат, которые под предводительством фанатичного Комиссара скитаются по пустыне и попадают в фантастический город Равенства, где царит коммунизм, напоминающий политический строй, описанный в утопии Томмазо Кампанеллы «Город Солнца» (1623).
У жителей города Равенства нет собственности (они не знают, что означает слово «мое»), нет семей, они трудятся и едят строго по расписанию, «как маятники», «все любят всех, все равны, выбора нет».
Дети рождаются, не зная, кто их истинная мать, так как воспитывает их коммуна. Хотя солдаты, оказавшись в городе, живут припеваючи, их одолевает скука, да и полигамные отношения оказываются им не по душе:
1-й. Нет, живем хорошо, спору нет, а только невтерпеж становится…
3-й. Всё бы ничего — бабы у них деревянные…
Взрыв негодования.
1-й. Тьфу, а не бабы!.. Как будто бы и ничего, бери любую…
3-й. То-то и плохо, что отказу нет. Все согласны. По закону любить не интересно. Хоть бы в морду какая дала!..
4-й. Пришел ты — пожалуйста, пришел другой — всем места хватит. Точно кобеля мы.
Старик. Один блуд.
Лев Лунц, «Город Правды», 1923
Комиссар решает вести свой отряд дальше, обещая им подлинное «счастье, но не покой», жизнь, полную борьбы. Однако против него восстает другой персонаж, олицетворяющий холодную рассудочность, — Доктор, не верящий в комиссарские кисельные берега. Его, как можно догадаться, убивают. С предсмертным хрипом он бросает вслед солдатам фразу о том, что «конца нет, вы дойдете и не найдете». Несмотря на схематизм, пьеса Лунца довольно точно обрисовывала изъяны утопического сознания — там, где мы обретаем счастье, там же находится и наша гибель, потому что в раю двигаться больше некуда. Из рая можно быть только изгнанным.

Коммунизм — это детское дело
Деконструкцией революционного мифа занимались не только перечисленные выше авторы. Конечно, антиутопический элемент присутствовал и в повестях Михаила Булгакова («Роковые яйца» и «Собачье сердце»), и в сатирической пьесе Владимира Маяковского «Клоп» с его «институтом человеческих воскрешений», отсылающим к философии общего дела Н. Федорова, и в творчестве Андрея Платонова, чьи тексты балансируют между утопией и антиутопией, между энтузиастическим напором и трагическим саморазоблачением.
Платоновский «Котлован», созданный в конце 1920-х, — это отходная песнь коммунизму, приговор попыткам построить общество на теоретических, оторванных от жизненного контекста основаниях. Столкновение буквы марксистского учения с реальностью порождает сюрреалистический кошмар, в котором антропоморфный медведь-молотобоец включается в строительство дома-общежития, куда войдут все пролетарии, а его медвежье «классовое чутье» становится главным ориентиром для коммунаров, готовящих окончательную ликвидацию кулаков. Чем глубже пролетарии роют яму для фундамента общежития, тем дальше они уходят от намеченной цели: повесть заканчивается смертью Насти, ребенка, символизирующего собой будущее, ради которого и трудились не покладая рук главные герои.
«Коммунизм — это детское дело», — размышляет Жачев в финале повести и признается, что «больше ни во что не верит» (в авторской рукописи была другая формулировка: «я теперь в коммунизм не верю»). Впрочем, платоновское творчество отнюдь не является карикатурой на революцию.
В «Котловане» и «Чевенгуре» Платонов скорее выразил собственное трагическое осознание ограниченности человека, чья физическая оболочка, подобно ветхим тканям, просто не выдерживает накала великой утопии.
В фантастической литературе 1920-х годов все надежды на достижение счастливого коммунистического будущего связывались исключительно с техническими инновациями. Авторов революционной эпохи мало заботили этические вопросы и нравственные дилеммы, которые неминуемо возникали при возведении технократического «града утопий». В то же время антиутопии Замятина, Лунца, Козырева, Платонова проблематизировали именно моральную сторону социалистического эксперимента, в чем и заключалась причина, по которой они не дошли до читательской публики и остались на долгие годы неопубликованными. После высылки из СССР Замятина в 1931 году антиутопическая линия в советской литературе сошла на нет, впрочем, как и сам жанр научной фантастики. Тема личности и государства, идеального социального порядка, прогресса и технологий воскреснет уже в период позднего социализма, в конце 1950-х годов.