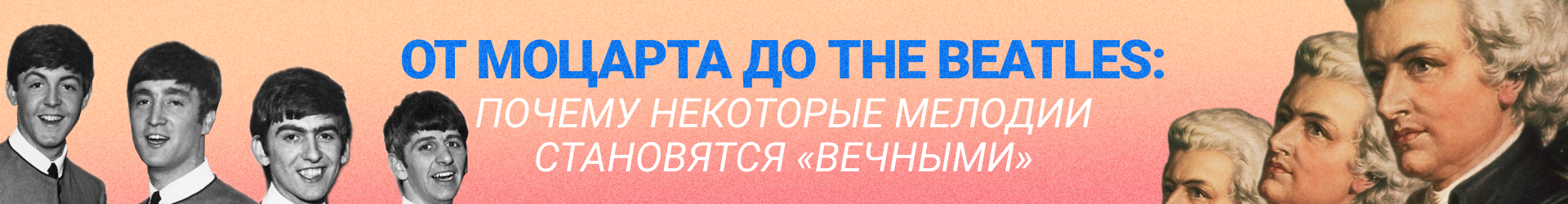«У многих сейчас возникает конфликт по отношению к этнической идентичности». Интервью об этноактивизме и миграции с социолингвисткой Владой Барановой, правозащитником Семеном Пупкиным и антропологом Дмитрием Верховцевым
Вопросы национального единства и этнической идентичности встают особенно остро в период любого массового кризиса. Последние годы в России всё громче слышны высказывания языковых активист_ок. По мнению социолингвистов, такие движения являются не только языковыми, но и общественными, так как изменяют существующее неравенство. Верена Подольская решила разобраться в особенностях и проблемах системного этнического неравенства в России и поговорила с тремя специалистами в этой области.
Влада Баранова, исследовательница миграции, специалистка по чувашскому и калмыцкому языкам, авторка книги «Языковая политика без политиков», рассказала о том, как изменяется языковой ландшафт городов и почему этноактивист_ки чаще занимаются культурой, чем политикой.
О том, как вопрос этнического единства возник в прошлый кризис, к чему привел сегодня и на что нам надеяться, мы поговорили с бывшим правозащитником Семеном Пупкиным. Основываясь на своих прошлых наблюдениях и исследованиях, он рассказал о связи этноактивистов и государства, правовых изменениях в области автономии и изучении языков, а еще — о проявлениях неравенства в России.
Антрополог и автор телеграм-канала AnthropoLOGS Дмитрий Верховцев изучает этнографию и историю формирования этнических категорий народов Северо-Запада России: ижоров, карелов, ингерманландских финнов. Занимаясь топонимами и этнонимами, он также изучает смысловые противостояния марксизма и теории этносов и социальность в глобализации, о чем и рассказал нам.
Читайте также
От языковой дискриминации к суперразнообразию. Почему мы все многоязычны, но не знаем об этом
— Что такое этноактивизм и как он устроен?
Дмитрий Верховцев: Этноактивисты — это сообщества активистов и отдельные люди, которые организуют свою солидарность по этническому принципу и стараются продвигать интересы той группы, которую, на их взгляд, они представляют. Эти сообщества пытаются представлять некие более широкие группы, которые они видят этническими. Они ставят себя «передовиками» этнических сообществ и, исходя из этого, ведут себя определенным образом. В первую очередь этноактивисты являются «самыми этническими» представителями своей группы, то есть они пытаются воплощать в жизнь те этнические черты, которые, на их взгляд, являются отличительными для их этнической группы. В этом им свойственен радикализм, языковой или религиозный, например. Те черты, которые они считают отличительными и важными для своей этнической группы, они стараются сохранять во всем: во-первых, сами их репрезентируют, во-вторых, поддерживают те точки зрения, которые помогают этим чертам в наибольшей степени сохраняться или развиваться. А эти черты не обязательно будут работать на интеграцию их этнической группы в общество.
Так, самое распространенное и простое, с чем мы сталкиваемся в среде активистов, это языковой признак. Борьба за сохранение языка часто заставляет активистов делать своей целью фактическое моноязычие, которое может только мешать группе интегрироваться в более широкое общество той страны, в которой она находится. То же самое с религиозными признаками, но они менее характерны, потому что религия меньше влияет на интеграцию, однако она может поддерживать радикальные течения для усиления религиозного чувства.
Этническое обособление внутри общества часто строится на примордиальных признаках: язык, культура, которые даются человеку независимо от его воли, от родителей, от местного сообщества. Эти примордиальные этнические признаки этноактивисты часто сужают, ограничивая их именно теми признаками, которые они считают наиболее важными. Например, по нашим статистическим документам, есть формально мордовская этническая общность, которая в переписях и проходит как мордва в Мордовской Республике и соседних областях. И считается, что у мордвы есть две группы, это мокшет и эрзят, у которых языки родственные, но отличаются. В отличие от поддерживаемых государством национальных ассоциаций мордовский этноактивизм пошел по пути полного разделения этих групп — в большинстве случаев мокшет и эрзят имеют различные сообщества, которые говорят: «Мы не мордва, нет такой общности, есть мокшет и эрзят». Как следствие, акцент делается на различиях, а не на сходствах и снижает общемордовскую солидарность.
Для этноактивизма в целом характерно стремление возрождать и укреплять некий особенный язык, не дать ему раствориться наравне со стремлением сохранить культурные черты, традиции. Это основано на опыте европейского национализма: все крупные нации, которые мы сейчас знаем, прошли через консолидацию языка, культуры, национальной идеологии, эпоса, фольклора и т. д. У русских, например, все те же показатели тоже были унифицированы, и это объединило в одну категорию множество более мелких групп языков и культур. Просто это явление современности (в смысле modernity), явление нового времени, когда возникли крупные, но неоднородные в языковом и культурном плане нации. Небольшие этнические группы, которые еще не являются нациями, этот путь тогда не прошли, и этноактивисты часто пытаются направить их на тот путь, которым прошли большие нации: например, консолидировать язык. Соответственно, чтобы язык консолидировался, он должен преобладать в как можно более крупном сообществе. И конкретно это явление универсально для всех этноактивистов в мире.
Конечно, в разных странах активисты действуют не только так прямолинейно и инструменталистски, они чаще ищут компромиссы. Любая группа живет в обществе, и всегда стоит вопрос интеграции.
Во всех странах этноактивисты пытаются найти баланс между интеграцией и сохранением этнической общности, чтобы она оставалась особенной. Есть страны, где политика государства направлена на сохранение этнического разнообразия, так как существует представление, что разнообразие идет на пользу государству.
Скажем, разнообразие культур, языков, традиций и каких-то представлений о мире позволяет государству иметь более многоплановый репертуар решений, деятельности. Думаю, наша страна не относится к такого рода странам, и поэтому у нас компромисс особенно не с кем находить, и часто этноактивизм становится очень радикальным, иногда это может отталкивать.

— Как принимают культурный этноактивизм в сообществах народов, которых представляют этноактивисты?
Влада Баранова: К сожалению, новые нестандартные формы высказываний, в которых молодые этноактивисты видят культуру, не всегда нравятся сообществу, вызывают раздражение, не всегда принимаются. Возникает и чисто языковая проблема, связанная с так называемыми новыми говорящими. Особенно часто языковой активизм возникает там, где есть проблемы с передачей языка, где нарушается естественная языковая трансмиссия и новое поколение часто не очень хорошо владеет языком.
Активисты — это, как правило, представители молодого поколения, многие из них выучили язык не естественным образом, не в семье, а позже. В детстве они слышали язык от бабушки, а во взрослом возрасте поняли, насколько для них это важно, и начали учить. Это очень распространенная по всему миру практика: люди начинают учить ирландский, гэльский или каталонский, потому что осознают, насколько это важная для них вещь.
Это обычно приходит лет в 17–20, когда человек ищет себя. И многие выучивают язык, начинают активно его использовать, заводят семью и иногда говорят на нем со своими детьми. Это прекрасно для языка, но такая речь немножечко отличается от того языка, на котором люди говорят с рождения. С одной стороны, это не так важно, потому что чем больше они будут общаться, тем больше шансов, что разговаривать они будут одинаково. Но иногда носители традиционного способа говорения не готовы принимать этих людей: считают, что говорить с акцентом на калмыцком, бурятском, башкирском или чувашском языке не очень хорошо. Это приводит молодых активистов к тенденции замыкаться, потому что, например, они делают супермодную удмуртскую музыку, которую другие всё равно не поймут. Они перестают общаться: у одних эстрада, а у других продвинутая электроника — считают, что говорить им не о чем. Хотя бывают и другие истории, когда все друг друга слушают, слышат и готовы разговаривать.
— Занимаются ли этнические активисты политикой?
Влада: Этноактивизм чаще оказывается культурным движением, чем политическим. Среди языковых активистов мало людей занимается политикой, отчасти потому, что это очень закрытая область. Как только они начинают заниматься политикой, у них возникают проблемы с силовыми структурами, а в регионах это всегда было гораздо жестче, чем в Москве и Петербурге.
— Как устроен этноактивизм в России?
Семен Пупкин: Легальные общественные движения на этнической основе возникли в СССР в конце 1980-х годов. По понятным, чисто географическим причинам их большая, если не большая часть действовала в Российской Федерации. Эти движения различались по многим параметрам, в том числе по целям, массовости и степени радикализма, но они определенно влияли на общественную жизнь, особенно в регионах. Спектр был широк — от сторонников полной независимости своих республик до чисто культурных обществ. Что было для большинства из них, пожалуй, общим в конце 1980-х — начале 1990-х, так это крайняя невоздержанность на язык: словами «геноцид», «империя», «самоопределение» бросались направо и налево.
Заметны ли этнические движения на протяжении последней пары десятилетий? Скорее нет. Те, что остаются на плаву, самостоятельной роли не играют и в основном демонстрируют лояльность государству. Почему так получилось? Напрашивается простой ответ, что их привела к покорности государственная машина, но такое объяснение справедливо только отчасти. Изначально большинство этнических движений реально, независимо от своей риторики и без давления властей хотело быть партнером государства. Откуда такое государственноцентрированное мышление — отдельный большой разговор. В результате уцелевшие этнические организации и их активисты в последние десятилетия делают то, что им говорят власти. Разумеется, в движениях были разные люди; радикальные или просто независимо мыслящие оказались в конце концов в эмиграции, на пенсии или на хорошем окладе в госаппарате.
Одна из причин подчинения этнических движений государству в том, что в начале 1990-х организации так называемых титульных национальностей делали ставку на власти своих республик, поскольку те декларировали близкие им цели.
Этнические движения хотели так называемого национального возрождение и укрепления республиканского суверенитета, а официальные лидеры республик стремились вроде бы к тому же самому. В результате этнические движения стали придатком госаппарата или сошли со сцены. Суверенизация республик и придание им черт национальных государств в 1990-е годы тоже не были пустым звуком и дали некоторые результаты. Как эти результаты можно оценить?
— Вы пишете, что высказывания на родном языке сейчас дают возможность иначе говорить о ситуации, через другую линзу. Объясните, пожалуйста, как именно это происходит?
Влада: Высказывания на родном языке не всегда оказываются подцензурными текстами. Иногда всё равно дело заканчивается тем же самым, чем и высказывание на русском, но высказывание на миноритарном языке медленнее считывается. На мой взгляд, те люди, которые делают такие акции более-менее регулярно, скорее хотят выстроить деколониальную перспективу. Хотят рассказать о том, что Россия — не монолитная империя, где есть только русские, которые думают одно. Россия — множество разных групп, и представитель_ница каждой имеет голос на своем языке. И эти голоса могут быть не только в поддержку, но и против, они могут быть разными. Опять же, это совсем не массовая практика, как и любой протест сейчас, конечно.
— Как бы вы решили проблему изучения в школах национального языка?
Семен: Почти все республики провозгласили языки своих титульных национальностей государственными, а также в разной степени и в разных формах ввели преподавание этих языков или на этих языках в системе образования. Но можно уверенно сказать, что ни один региональный язык по объему социальных функций не приблизился к русскому. Россия остается преимущественно русскоязычным пространством, а прочие языки занимают, по сути, маргинальные позиции. В чем причины?
Во-первых, обеспечить устойчивое двуязычие, такое, чтобы языки были сопоставимы по объему общественных функций и престижу и чтобы при этом не было сегрегации, в принципе очень непросто. Есть сложившиеся реалии, которые невозможно просто отменить или игнорировать. Коммуникации идут уже на протяжении нескольких поколений в основном на русском языке. Сказать, что это добровольный выбор людей, будет насмешкой: люди используют русский, потому что к тому их настоятельно принуждают социальные обстоятельства, на которые они сами не могут повлиять. Чтобы эту ситуацию переломить, и от простых людей, и от государства требуются экстраординарные усилия и очень сильная мотивация. Откуда ей взяться? Развитие двуязычия мало кому может принести чисто утилитарные выгоды, особенно в краткосрочной перспективе, и немногие, как правило, готовы осложнить себе жизнь из чисто идеалистических соображений. А зачем такая головная боль нужна федеральному центру, я даже не берусь вообразить.
Во-вторых, развитие регионального языка встречает политическое противодействие. Неизбежно возникают разные группы интересов, и у каждой группы своя правда. Одни скажут: мы хотим, чтобы наш язык полноценно использовался и развивался; мы не виноваты в том, что он оказался в загоне. Другие скажут: а почему за наш счет? Почему наши дети должны учить местный язык в ущерб другим предметам, хотя этот язык мало где используется и все общаются на русском? Здесь стоит добавить, что качество преподавания местных языков обычно хромает: учебные программы часто рассчитаны на тех, кто уже общается на языке в семье, а все остальные реально выучиться ему в школе не могут.
По ряду причин развитие государственных языков в республиках далеко не продвинулось. Кроме символических жестов типа провозглашения их государственными можно говорить только о создании институциональных карманов — нишевых организаций и учреждений типа гуманитарных кафедр, специальных школ, издательств, радиостанций — со своими относительно узкими аудиториями.
Государство и на федеральном, и на региональном уровне вроде бы не отказывается от того, что в России есть разные языки и что их надо развивать и поддерживать (обычно с оговоркой — не в ущерб русскому языку). Нынешняя ситуация развитию языков и двуязычия не очень способствует, в частности из-за нестыковок в законодательстве. Даже по действующему федеральному закону об образовании республики имеют право вводить преподавание своих государственных языков. Не очень понятно, в каких рамках — регионы не участвуют в формировании базисного учебного плана, и еще в 2007 году был отменен его «национально-региональный компонент». Преподавание возможно только на основе федерального стандарта, но он установлен для немногих языков. Есть школы, в быту называемые «национальными», такие, где используются языки, скажем так, меньшинств, но у этих школ нет законодательно закрепленного статуса. Граждане имеют право получать образование на родном языке, и преподавание родного языка — обязательная часть программы. При этом есть установка, что школьников нельзя принудительно обучать неродному языку, а с 2018 года действует принцип добровольного выбора «родного» языка.
Многое решалось и решается на местах неформально, на основе импровизаций. Например, в республиках, где закон предусматривал обязательность изучения местных языков, были разные модели: где-то преподавали всем школьникам, где-то освобождали по желанию, где-то обязательным изучение было только для титульной национальности.
Общий вывод: существующие обстоятельства создают скорее негативные стимулы для изучения и использования языков помимо русского. Возможна ли какая-то идеальная формула языковой политики, которая всех бы устроила? Чтобы языки жили, нужно, чтобы они использовались публично, а не только в семье. Отчасти можно надеяться на интернет и социальные сети, но, наверное, этого недостаточно, и, абстрактно рассуждая, нужны большие дополнительные усилия. Кто в это будет вкладываться? Как может измениться мотивация государства и просто граждан? Что делать, если население этнически смешанное и смотрит на ценность местных языков по-разному?
Общий путь, мне кажется, в том, чтобы искать точки соприкосновения разных групп интересов и находить гибкие вариативные решения, такие, чтобы разные люди могли к ситуации безболезненно приспособиться.
Важно, чтобы такая политика не была ни для кого унизительной, чтобы никого не ломали через колено, чтобы люди могли делать осознанный и добровольный выбор. Но здесь начинается разговор о совершенно абстрактных материях.

— Кажется, что среди молодежи сейчас модно владеть каким-нибудь миноритарным языком: популярно писать музыку на этих языках, создавать бренды одежды или переводить статьи. Насколько это действительно массовые тренды?
Влада: Это наша основная надежда, потому что способ сохранять языки — это делать их модными, чтобы они ассоциировались не с бабушкиным сундуком, а с завтрашним днем, с тем, что интересно детям и подросткам. Я ужасно рада, что это происходит. Делают это как раз этнические и языковые активисты, которые очень много занимаются популяризацией языка. Но есть несколько проблем: во-первых, это остается относительно нераспространенным и относительно маргинальным явлением.
Если сравнить прослушивание русскоязычных и татароязычного альбомов электронной группы АИГЕЛ, то прослушиваний татароязычного альбома «Пыяла» пока гораздо меньше. То же самое касается почти всех других исполнителей. Альбомы, записанные на миноритарных языках, очень редко выходят на федеральный уровень.
Но, с другой стороны, иногда это дает очки молодым исполнителям или молодым дизайнерам. Дизайнеры часто занимаются этническим предпринимательством, довольно часто в начале карьеры используют миноритарные языки, это делает людей видимыми, заметными, яркими, интересными. Надеюсь, что такого будет больше.
— Вы занимались городскими языковыми ландшафтами. Уже существуют музыкальные альбомы на татарском, но почему еще нет калмыцкого техно-клуба? Насколько в российских мегаполисах заметна мультикультурность, от вывесок до досуга и культуры?
Влада: Очень агрессивна враждебная среда, очень сильна ксенофобия. Мейнстрим российского города — это монументальная и моноэтническая идеология. Но до конца февраля мне казалось, что ситуация меняется, что этническое многообразие потихонечку становилось модным. И были люди, которым приятно ходить в грузинские пекарни и аутентичные китайские забегаловки. Даже языковой ландшафт менялся: возникали миноритарные языки на вывесках.
Когда мы с коллегой только начинали этим заниматься, надписи были лишь в очень стигматизированных областях: Петербург был наполнен секс-рекламой на узбекском. А сейчас в Петербурге можно увидеть самые разные объявления: от меню до граффити. Но в то же время многообразие скрыто существует: калмыцких техно-клубов действительно нет, но азербайджанские спортивные залы для тренировок и специфических единоборств есть. Они не очень видны человеку извне: это просто дверь, просто помещение без вывески, где что-то происходит.
Многие аутентичные кафе, даже китайские, вообще не имеют никакой вывески, часто там просто дверь. Как только там появляется вывеска и меню на русском, скорее всего, там уже менее аутентично.
А сами китайцы пойдут туда, где просто дверь без всего и даже меню не будет: гости сами заказывают то, что хотят поесть. Прекрасные крупные города будущего, в которых хотелось бы жить, — это города с видимыми вывесками на всех языках. Хочется, чтобы и в Петербурге, и в Москве, и в других крупных городах возник бы этнически многообразный выбор досуговых практик, от музыкальных клубов до спортивных секций и кафе.
— Следствием каких процессов стал рост вывесок на разных языках? Это связано с ростом миграции или с ростом ассимиляции?
Влада: Одновременно действовало несколько процессов. С одной стороны, жестко монолингвальная идея уходила, особенно среди младших возрастных групп: молодые люди всё меньше считали, что все вокруг должны говорить по-русски. Возникла идея, что вообще можно говорить на разных языках, можно путешествовать в разные места, что мир — разнообразен. С другой стороны, накапливалось число людей с языками кроме русского, с другим этническим бэкграундом, и не только среди недавно приехавших людей, которые чувствуют себя неуверенно и незащищенно, но и среди людей, которые выросли здесь, которые чувствуют, что это — их пространство. Их привезли детьми или они приехали сами начиная с 1990-х годов — а это, страшно подумать, случилось более 30 лет назад, за это время выросло уже несколько поколений, которые хотят быть видимыми. Они хотят участвовать в разных процессах: быть муниципальными депутатами, открывать бизнес. Они ощущают свое право на город так же, как и их одноклассники.
— Насколько популярно в России изучать язык своего этноса как второй язык, как делали некоторые ваши информанты-калмыки из Сибири? Повлияла ли ситуация последних месяцев на интересы многих россиян к своим корням, к изучению языков родителей?
Влада: К сожалению, изучение второго языка — очень маргинальная штука. Изучение языков, которые имели официальный статус в республиках, стало факультативным после изменения закона об образовании 2018 года. Если в сельской школе с одним классом все родители выбрали какой-то язык, то он и будет преподаваться. Достаточно даже одной семье написать о нежелании изучать бурятский, чтоб ушло преподавание бурятского. И очень часто русскоязычное население в регионах скорее негативно настроено по отношению к изучению местного языка.
Колониальная идея, что никаких языков не надо, кроме русского, очень плохо и медленно уходит, к сожалению.
В чатах, посвященных языкам, видно сейчас, что у многих людей возникает конфликт по отношению как к русской идентичности, так и к этничности. Они говорят: «Я вообще не русский, я не отвечаю за русский мир». Но я думаю, что это пока довольно маргинальная практика. Она видна нам, потому что мы за этим наблюдаем, но я не думаю, что это массовое явление внутри разных этнических сообществ. Сейчас больше идет дискуссий о том, должны ли они быть частью России, частью русского мира или нужно отделяться, искать свою историю, которая будет иначе это рассказывать. Но и эти дискуссии, я думаю, пока достаточно маргинальны по отношению к мейнстриму, однако уже видны. Особенно на фоне того, что сейчас очень много погибших именно из этнических регионов, особенно в Бурятии и Дагестане.
— Насколько этноактивизм противопоставляется русской культуре?
Дмитрий: Я в принципе против представления этнических общностей, в том числе русской, как некоего подобия организма, четкой группы с вычисленным количеством членов и жесткими границами, где можно увидеть конец русского этноса и начало, например, белорусского. Это очень устаревший взгляд на этничность, который, к сожалению, не вышел из российского общественно-политического языка. Для обывателя нормально представлять свою нацию как нечто, существовавшее вечно, имеющее четкие границы, уходящую в века историю, как некий организм, соединенный с землей. Общественно-политические науки давно продвинулись очень далеко от этого представления. Представление это было связано с национализмом XIX века, когда возникали европейские крупные национализмы. И примордиалистский взгляд как раз тогда и сформировался как таковой. На протяжении всего XX века этот примордиализм был немым оппонентом для социальных ученых, в том числе антропологов, среди которых такой подход критиковался. А немым он был просто потому, что ученые уже в XX веке не представляли такой подход. Социальные ученые пытались такое представление побороть, оспорить и сформировать иную теорию.
Множество различных теорий, возникших на этой почве с конца 1960-х годов, представляют этническую общность как некую более аморфную категорию. Иными словами, каждый отдельный человек может иметь множество идентичностей — может в каких-то обстоятельствах сказать, что он русский, а в других обстоятельствах он будет тверской карел.
Все эти многослойные идентичности будут то актуализироваться, то, наоборот, уходить куда-то в тень. И если подходить с когнитивной точки зрения, то как из индивидов со сложной идентичностью можно сформировать что-то конкретное, да еще и уходящее корнями в палеолит, как иногда в национальных историях звучало, когда корни нации находили и в каменном веке? Это скорее анекдотичный случай.
Возвращаясь к этноактивистам, хоть я и ругал их за радикализм, но представление маленькой группы в качестве некоего солидарного сообщества может еще иметь какой-то смысл аналитический, но представлять 80% населения России, которые в переписи ответили, что они русские, как некое единое сообщество, которое чем-то кардинально отличается от других сообществ, — довольно сильное упрощение, и такая аналитическая категория не очень продуктивна. Если говорить уже с точки зрения внутренней колонизации, то этот дискурс возник, когда Александр Эткинд в книге «Внутренняя колонизация» показал, что отношение к русским крепостным крестьянам на протяжении продолжительного времени мало чем отличалось от тех колониальных практик, которыми пользовались западные государства при колонизации заморских территорий.
С точки зрения примордиальной нации-этноса мы должны считать, что крепостные крестьяне, дворяне и царь — это всё один и тот же этнос, единое сообщество, которое действует солидарно, исходя из единых интересов. Как раз «Внутренняя колонизация» показывает, что это совсем не так, что язык крепостных крестьян был не такой же, как у их владельцев-дворян. Более того, отличалось очень многое с точки зрения этнографии, даже одежда. Если Петр I заставил носить дворян европейское платье, то крестьянам и купцам такие требования не предъявлялись. На протяжении XVIII века родным языком дворянства практически стал французский, а для крестьян он был недоступен. Подобная оптика единого этноса очень слабо применима к такой сложной ситуации.
Русские крестьяне XIX века были такой же эксплуатируемой категорией, как инородцы. Был специальный устав для управления инородцами, и русский крестьянин был ближе по своему социальному положению скорее к ним, а иногда был и в худшем положении, чем инородцы, и больше шансов найти общее между их положениями, чем между положением русского крестьянина и его эксплуататоров, дворян или городской прослойки зарождавшихся капиталистов.
Внутренняя колонизация дает более сложную картину, и чем точнее мы пишем какую-то действительность, тем больше у нас шансов ее объяснить и, соответственно, сделать какие-то выводы, получить интересные ответы.
— Распространено мнение, что чаще существует классовая проблема, а не этническая. Действительно ли россиянин в Москве будет так же отличаться от россиянина в южной деревне, как он будет отличаться от россиянина в бурятской деревне? Неравенство носит территориальный характер, этнический или классовый?
Семен: Всё взаимосвязано, и социальные характеристики — место рождения, социальное окружение, возможности получать образование или выбирать работу — могут в каких-то ситуациях соотноситься с национальностью. Как правило, в республиках доля титульных национальностей больше в сельской местности, а между селом и городом есть разница в доступе к ресурсам со всеми возможными последствиями. Как эти отличия люди с разных сторон будут воспринимать и истолковывать? По-разному, наверное. Национальность или происхождение могут восприниматься как маркер социальных характеристик и порождать стереотипы и определенные ожидания.
Разный опыт социализации, связанный с этническим происхождением, тоже важен. Если одному человеку в семье рассказывали одно, а другому — противоположное, то различаться будут и ценности, и восприятие некоторых реалий. Одни будут считать себя жертвами колониализма, а другие будут говорить, что Россия принесла в «отсталые» регионы культуру.
Не совсем верно будет говорить, что здесь чисто классовые или идеологические различия. Надо разбирать конкретные ситуации со всеми нюансами.
— Замечали ли вы среди ваших информантов и информанток гордость за их происхождение? Связано ли это с этносом, с регионом или это просто личностные характеристики?
Влада: Степень значимости этничности как одной из идентичностей очень разная. Во многом она зависит от сообщества. К сожалению, мне кажется, чем драматичнее история сообщества, тем значимей оказываются коллективные категории. И сейчас мы наблюдаем, как люди стремительно развивают этнические идентичности.
— Считается, что всё, что есть у титульной нации, также присвоено и другим народностям, населяющим Россию или даже постсоветское пространство. Если рассматривать современную русскую культуру отдельно от дореволюционной, то получится, что культура русских россиян на первый взгляд менее яркая, чем культура прочих этносов, населяющих Россию, вепсов, например. Если это действительно так, то возможна ли русская идентичность сейчас? Иначе говоря, если не русские россияне были вынуждены принять русскую культуру, то что теперь русская культура и есть ли она?
Дмитрий: Не вижу никакой проблемы в том, что русская культура во многом стала общероссийской метакультурой для всех народов, потому что эти процессы скорее связаны с тем, что культуры универсализируются на мировом уровне, та самая пресловутая глобализация. До революции, в эпоху более однозначных колониальных отношений, когда русская администрация под ником европейской культуры приходила на различные окраины Российской империи, она была проводником и модернизации, и русской колонизации. Процесс модернизации происходил иерархическим образом: универсальная культура распространялась на те народы, которые уже имеют каналы, по которым она может до них добраться, когда уже существовала развитая письменность, пресса (так европейскую культуру получали высшие слои русского общества). Потом та же самая универсальная культура в локальной форме приходит к тем группам, которые еще не получили ее иными путями.
Яркость культуры небольших групп, например вепсской, я бы назвал скорее не яркостью, а музейностью, потому что советская национальная политика была основана на том, что говорил Сталин: «Культура у нас будет национальной по форме, но социалистической по содержанию». Это значит, что различные внешние проявления национальной культуры всячески приветствовались до тех пор, пока они не мешали каким-то целям социалистического строительства. Фольклорные ансамбли — пожалуйста, национальные музеи — пожалуйста. Национальный театр? Очень хорошо! Моноязычие? Нет! Какое-то автономное политическое управление? Нет.
Возвращаясь к вопросу об этносе в современной Российской Федерации, нельзя говорить, что есть какие-то кардинальные отличия между русской культурой и удмуртской или мордовской культурами. Культура на 90% будет общая для каждого жителя, который считает себя удмуртом, русским или кем-то еще. А вот какие-то локальные этнические отличия, конечно, присутствуют, и они будут настолько же разными между русским из Москвы и русским из деревни в Удмуртии, как между русским из Москвы и русским из северной или южной деревни.
Существует локальность культуры, но она не обязательно связана с этничностью в канонической форме, с четким делением на этнические категории номенклатуры переписей населения.
Нет человека без культуры, у человека всегда есть культура, у сообщества всегда есть культура, и любая культура будет ценной для исследования и для людей, которые являются ее носителями.
Но с колониальной точки зрения культуры подразделяются на более яркие и менее яркие, потому что есть метрополия, некий усредненный вид, который модерность придала большинству населения страны. И когда мы видим что-то другое, для нас это кажется ярким, но с точки зрения самих носителей — это просто их локальная нормальность.
— Почему существует ксенофобия в многонациональной России, где высокие посты в том числе занимают представители разных этносов?
Влада: Мне кажется, что особенность российского расизма в том, что он долго был очень скрытым, о нем мало говорили. Может быть, это инерция «дружбы народов», когда все молча стремились стыдливо закамуфлировать неприязнь. Для меня очень характерным моментом было то, что, когда обсуждалось движение BLM, в России обсуждалась проблема чернокожих: как тяжело жить афроамериканцам в России. Безусловно, надо говорить о проблемах афроамериканцев в России. Но это не самая распространенная группа, которая подвергалась системной дискриминации в российском обществе по принципу цвета кожи, этничности и т. д. Тогда вообще не попытались широко обсудить отношение к людям с Кавказа, из Средней Азии и т. д. — к тем, кто являются «черными» в российском обществе.
Насколько много говорят люди, которые относятся к этническим меньшинствам, когда их спрашивают! Почти каждый человек сталкивался в данном случае с какой-то дискриминацией. Если начать об этом говорить, то открывается ящик Пандоры — как с #MeToo выясняется, что почти не было женщин, которые не становились бы объектами домогательств или агрессии в той или иной степени. Почти то же самое с расизмом и дискриминацией. Но это совсем не видимо. В связи с этнической дискриминацией просто еще не началась настолько заметная кампания вроде #MeToo. Может, если бы мы жили чуть-чуть спокойнее, как раньше, то пришли бы к масштабному обсуждению этой проблемы, подумали бы, поговорили бы, было бы много боли со всех сторон. Часто возникали бы нетерпимость и агрессия, но люди бы сделали небольшой шажок. Как и с #MeToo, после которого какие-то вещи уже просто невозможны.
— Почему либеральные интеллектуалы в РФ, которые активно поддерживали движение BLM, не переводили его в контекст в России, где это может быть не про афроамериканцев, но про многие другие народы? В то же время, кажется, что в Европе им удалось это перевести в свой контекст.
Семен: Мне кажется, напротив, многие пытались свои представления о BLM проецировать на российские реалии, только не слишком удачно. Само по себе движение Black Lives Matter («Черные жизни имеют значение») то ли есть, то ли нет, но это в данном случае неважно. Этот слоган стал широко известен два года назад, когда в США происходили массовые выступления и даже беспорядки на расовой почве. Эти события действительно вызвали реакцию части российской публики, хотя раньше вопросы равенства и недискриминации в России мало кого занимали.
Здесь что важно? Говорим BLM — подразумеваем американский антирасизм, причем не только активистский, но и интеллектуальный, академический. Кто такие антирасисты? Это те, кто борются с расизмом. Кто такие в современной Америке расисты? Это те, кто в любой форме и степени не согласны с антирасистами. Дурная циркулярная логика? Не совсем.
На любое общество можно наложить систему расовых или этнических (в зависимости от того, в какой части света находимся) категоризаций, а затем пересчитать распределение благ и вообще социальную динамику по этой расовой или этнической шкале. Могут обнаружиться большие и устойчивые диспропорции. Причин может быть много; чаще всего это корреляции. Современный антирасизм объясняет диспропорции как результат господства одной расовой группы — условных белых — и подавления ею остальных. Все отношения в обществе — на макро- и микроуровнях — соответственно переосмысливаются как межгрупповое доминирование и подчинение. Так, для BLM полицейское насилие — это не следствие институционального устройства правоохранительных органов, а одно из проявлений того, что в обществе господствуют «белые» как класс, а «цветные» как класс угнетены. Изменить такое положение, с их точки зрения, можно, только радикально перераспределяя власть и ресурсы между группами. Те, кто с подобными взглядами как-либо не согласны и вспоминают про равные права независимо от расы и этничности, — те, следовательно, расисты, потому что объективно стремятся сохранить существующие иерархии и отношения неравенства.
Современный антирасизм американский по происхождению и основным чертам; идеи, по сути, классовой борьбы, которые лежат в его основе, вполне объясняются спецификой американской истории, точнее — реакциями интеллектуалов и активистов на последствия, главным образом, рабовладения.
BLM и прочее — это чисто американский феномен, связанный с американским же контекстом. Процессы в США, конечно, очень сильно влияют на остальной мир, в том числе на антидискриминационную повестку. Подражание Америке объяснимо, но не всегда уместно, и мерить другие страны американской меркой не совсем правильно.
Как было бы, на мой взгляд, корректно отреагировать на американские события? Антирасизм правильно отмечает, что есть социальные диспропорции, которые можно пересчитать в расовом или этническом измерении; эти диспропорции — результат разнообразных, сложных и устойчивых процессов, которые хотением или каким-нибудь декретом не отменить. Идеи классовой борьбы ничего не могут дать ни для анализа, ни в практическом отношении, разве что привести к тупиковой коммуникации. Кампания на тему коллективной вины и ответственности за «неправильное» прошлое к делу отношения не имеют. BLM — американское явление, которое для остального мира любопытно, но не более того. Что касается социальных диспропорций в своих странах, то их надо изучать и, если на то есть потребность, пытаться преодолеть. Точка.

В России BLM вызвало заметное оживление, но комментировали события люди, не очень хорошо понимавшие контекст. Для одних BLM означало наступление леваков и чуть ли не начало социалистической революции. Для других события (а точнее, реакции в русскоязычной же среде) были поводом кинуть грязью в тех, кто к BLM отнесся недостаточно восторженно, как в ретроградов и расистов. Сомневающимся приписывали какие-то странные мотивы и стремление защищать свои расовые и гендерные привилегии. Эта дискуссия, если ее так можно назвать, имела, конечно, очень отдаленное отношение к проблемам и США, и России.
А вот то, что происходило и происходит в России с мигрантами и, скажем так, с нерусскими национальностями, такого внимания пока не заслужило. Об этом говорили и писали в очень узком кругу тех, кто профессионально этими проблемами занимались.
— Почему такая громкая тема оставалась в узком кругу людей, которые занимались этим профессионально?
Семен: Общего объяснения у меня нет. Я для себя определял это так, что люди, которые были критически настроены к российской действительности, видели то, что лежит на поверхности: ксенофобию в острых формах, конфликты и репрессивные действия государства. И все бросались обсуждать ксенофобию, и в итоге усилия уходили в пустоту, потому что производство неравенств с ксенофобией напрямую не связано. Кто-то на кого-то нападает, избивает, убивает — это обсуждается, это понятная проблема, которая в свое время была действительно острой. То, что не связано с насилием и угрозами, с языком вражды, не замечается, потому что не задевает людей. А в Америке любые проявления неравенства людей трогают, потому что за этим стоит долгая болезненная история и пока что не до конца успешные попытки преодолеть сегрегацию и отчуждение разных групп.
Если смотреть на Европу, то надо иметь в виду, что она очень разная. В Британии еще в 1960-е годы правящая тогда лейбористская партия начала следовать американскому подходу и принимать антидискриминационные законы. Тогда Британское Содружество было внутри более открытым и на острова массово приезжали жители бывших колоний. Прозвучали тревожные звоночки о том, что возникает сегрегация, — и британское правительство пыталось с этим что-то сделать. Ситуация в Британии, соответственно, близка к американской в понимании проблем и манере их обсуждения.
А в континентальной Европе расовые категории не играли такой роли, а были проблемы иммиграции людей с иным гражданством. Тема защиты прав «других» развивалась вокруг иммиграционного статуса и доступа к гражданству. В Евросоюзе нормы против расовой дискриминации появились только в 2000 году по чисто политическим причинам. Но на континенте есть интеллектуалы и активисты, которые следуют представлениям, навеянным отчасти американским антирасизмом, отчасти неомарксизмом, отчасти критикой колониализма. Эта прослойка заявляла о солидарности с BLM, но масштаб выступлений и дискуссий был, конечно, меньше, чем за океаном.
— НКО, специализирующееся на помощи детям с онкологией, в своей рекламе скорее будет использовать пятилетнюю славянскую девочку, нежели чем подростка-чеченца. Сложнее ли борьба за права человека для представителей других культур?
Семен: Я не уверен, что можно говорить про разные культуры. У бывших советских людей всё-таки во многом общий опыт социализации. Этот фактор может как способствовать эмпатии поверх этнических границ, так и мешать. Мешать в том смысле, что эмпатия бывшим советским людям вообще не свойственна. Все занимаются своими проблемами, до посторонних почти никому нет дела. Мой личный опыт не позволяет предсказывать, когда и кого россияне могут воспринять как «своих». Добавлю, что многое, наверное, зависит от средств массовой информации и массовой культуры, а здесь, как иногда пишут, проводится определенная корпоративная политика, и персонажи, относящиеся, скажем так, к меньшинствам, в определенных амплуа в сценарий и эфир не допускаются. Откуда тогда взяться эмпатии?
— Взаимосвязано ли отсутствие эмпатии с отсутствием солидарности?
Семен: Всё городское население училось на русском языке, как правило, и все впитывали примерно одни и те же клише и стереотипы. И если их настойчиво подтолкнуть к выражению общего мнения, они его выразят. События показывают, что многие выйдут на демонстрацию, принесут плакаты, подпишут петицию и будут в микрофон говорить примерно одну и ту же ерунду. Если случится беда и будут собирать деньги на погорельцев или на жертв наводнения, то многие поучаствуют и национального отчуждения, скорее всего, не будет. Но это попадает в графу принудительного коллективизма, на который российская история богата. Мы еще можем ожидать солидарности в профессиональных сообществах. Резюме: если люди не входят в свой круг, профессиональный или семейный, и если нет команды свыше, то эмпатию сложно ожидать, и не только по этническому признаку. А что касается негативных стереотипов, то они есть и пользуются спросом, в том числе благодаря литературе и сериалам.
— Существует ли солидарность активистов, представляющих разные этносы? Будут ли бурятские этноактивисты поддерживать ижорских этноактивистов? Или же будет спор за повестку, как это часто бывает с новыми социальными движениями?
Дмитрий: Думаю, что этноактивисты уже обладают определенной солидарностью, потому что им делить нечего. Если они не борются за преференции в каком-то одном территориальном субъекте, то у бурятских этноактивистов и у ижорских этноактивистов будет очень много точек соприкосновения и общей борьбы. Пока что не могу сказать, что я вижу какие-то общие цели у разных этнических групп, которые бы они преследовали. Я по касательной с этой темой общаюсь, но знаю, что есть Демократический конгресс народов России, объединяющий скорее оппозиционных активистов. При этом есть параллельная структура государственных и частных учреждений, выполняющих функцию представительства: различные общества культуры, которые обычно приписаны к тем субъектам Федерации, которые имеют национальную специфику. Соответственно, у них повестка совершенно другая. Можно даже сказать, что у них нет повестки, они просто выполняют презентационную, а не активистскую функцию. А вот у внесистемных активистов есть свои каналы. Но пока это не слишком заметное явление, на мой взгляд.
— Как сейчас обстоят дела у коренных народов, кто к ним принадлежит сегодня и как это вышло?
Семен: Мимо этого, конечно, не пройти. Коренные малочисленные народы — едва ли не приоритетная тема для российской власти в области этнических отношений. Кроме того, коренные народы — это важная глобальная повестка.
О ком речь? Интуитивно многим вроде бы понятно, кто такие коренные народы — это люди, которые ведут традиционный образ жизни, которые в меньшинстве по отношению к населению государства, даже на своей собственной исторической территории, и которые сильно отличаются от остального населения. А сформулировать эти же критерии на строгом правовом языке намного сложнее, и общепризнанного международного определения нет.
Современные подходы к коренным народам в мире отражают несколько различных логик, которые причудливо сочетаются и переплетаются.
Самая старая логика — прогрессистская, плавно перетекающая в патерналистскую, — говорит о том, что есть люди исторически отсталые, а потому бедные и оказавшиеся в тяжелом социальном положении. Надо им помочь развиться, дать образование, научить современным профессия, наладить медицинскую помощь, сделать из них нормальных фермеров, рабочих и т. д. Яркий, но не единственный пример — как с коренными народами обращалась советская власть. При социализме государство пыталось эти малочисленные народы вытянуть, как они говорили, «из первобытного общества в коммунизм».
В 1957 году была принята Конвенция международной организации труда № 107 об интеграции коренного населения. В ней содержалась та же прогрессистская логика: надо создавать условия, чтобы эти народы интегрировались в общегосударственный коллектив. Но такая позиция рано или поздно вызывает критику: «А почему мы должны интегрироваться? Мы вас не звали. Жили себе спокойно, а тут приходят какие-то люди, учат нас жизни, вытесняют с нашей территории, мешают заниматься рыбной ловлей и прочими традиционными занятиями. Давайте отыграем всё назад».
В ходе тридцатилетних дискуссий в ООН сформулировали подход, который сейчас закреплен в Декларации о правах коренных народов. Там в основе две разные, но на практике взаимосвязанные позиции — самоопределение и деколонизация. В этой логике коренные народы подверглись колонизации со стороны внешнего пришлого населения, и теперь они должны иметь право определять свою дальнейшую судьбу самостоятельно. Это хорошо звучит и это доминирующий сейчас в мире пафос, но декларировать такие идеи, конечно, проще, чем реализовать на практике.
Есть и другая перспектива: коренные народы — это носители традиционной культуры, которая есть ценность сама по себе, а потому ее надо защищать и сохранять независимо от того, вписывается ли она в прогресс.
Есть и националистическая логика, гласящая, что коренная национальность должна пользоваться как минимум приоритетными правами на своей исконной территории.
И можно выделить еще подход, который развивается в странах англосаксонского права (Канада, Австралия, США), — так называемый аборигенный титул (aboriginal title). Эта доктрина была сформулирована в 1970-е годы, когда отвергли принцип terra nullius, «ничейной земли». Когда-то им обосновывались захваты земли европейскими поселенцами: если живущие на земле люди не занимаются регулярным хозяйством и непонятно, какому государству земля принадлежит, то она ничья и ее можно забрать.
Теперь признается право сообществ, общин, которые восходят к общинам доколониальных времен, заявлять требования на земли, ресурсы и артефакты, которыми их предки пользовались к моменту прихода европейцев. Требования подлежат рассмотрению, и споры могут быть урегулированы с учетом того, насколько законно, с учетом действовавших соглашений и правовых актов, происходило отчуждение земель.
Поскольку в мире сложилась концептуальная мозаика и разные логики совмещаются и переплетаются, нельзя сказать, что Россия идет своим путем — можно отметить много параллелей, перекличек и даже заимствований. Начнем с того, что основное понятие в России — это коренные малочисленные народы, хотя в мире говорят про коренные народы вообще. КМН — это такой, если можно так выразиться, советско-российский гибрид. В советское время говорили больше про малочисленные народы Севера и Сибири и пытались эти народы завести в социализм. В конце 1980-х прогрессистский подход полностью трансформировался в патерналистский. Про социализм забыли, советские и российские правительственные документы к моменту распада СССР говорят о малочисленных народах в трудной экономической ситуации и делают упор на мерах социальной поддержки. Но тогда же появляется новое понятие — «коренное население» — и новые темы — защита традиционного образа жизни и национальное возрождение. Тема колониальности осталась маргинальной, а понятием «самоопределение» все уже давно пользовались широко и безответственно, без всяких практических последствий.
В свете всех этих новых тем и понятий долго шли споры над проектами законов о коренных народах. В 1999 году приняли первый российский рамочный закон о правах коренных малочисленных народов. Откуда возникла «малочисленность»? Во-первых, была неофициальная советская традиция так называть коренные народы; во-вторых, понятия «коренное население» опасались — оно как-то нехорошо рифмовалось с понятием «Нагорный Карабах». На какой-то стадии придумали ввести количественный критерий — не более 50 000 человек на один народ. Это было, вероятно, сделано для того, чтобы исключить титульные национальности республик и не дать республикам в руки такое мощное оружие.
Что особенно важно: в законе 1999 года упор сделан на защите и развитии традиционной культуры, и закон распространяется на тех, кто ведет традиционный образ жизни на территориях традиционного расселения и традиционной хозяйственной деятельности. В законе упоминается и социально-культурное развитие народов, и государственная поддержка, но кратко, без деталей.
И возникает очень непростая ситуация: политика в отношении коренных малочисленных народов — это теперь сплошная серая зона.
Что такое традиционный образ жизни? Ловля рыбы с моторных лодок нейлоновыми сетями и охота с помощью снегоходов и GPS — это традиционный образ жизни или нет? Как отличить человека, ведущего, например, традиционную охоту для собственного пропитания, от того, чей промысел ориентирован на рынок?
С точки зрения российского правительства лица, относящиеся к коренным малочисленным народам по национальности, — это примерно 300 000 человек на всю Россию. В законодательстве наряду с понятием КМН есть еще категория коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, которая несколько уже. Из них, по разным оценкам, традиционный образ жизни в полном понимании, как основу жизнеобеспечения, поддерживают где-то в среднем 15% тех, кто относится к КМН по национальности. Остальные существуют между традицией и современностью: многие живут в поселках городского типа; в лучшем случае они стали бюджетниками или чиновниками, в худшем — сезонными рабочими или просто безработными на пособии. То, что можно назвать традиционным образом жизни, размывается. Люди занимаются рыбной ловлей или охотой, но для них это может быть непостоянным или неосновным занятием. Более того, трудно провести черту между промыслом для личного потребления и для получения дохода.
Получается, что многие вещи не прописаны в законодательстве или возникают коллизии между разными законами либо между рамочным законодательством и ведомственными актами. Кроме того, многие неясные ситуации разрешаются на местах просто по произволу. Коренным народам нужны ресурсы — дичь, рыба, лес, к которым с разных сторон тянутся загребущие руки. Принцип приоритетного доступа коренных народов к ресурсам не действует, и коренные народы оказываются в слабой позиции по сравнению с другими игроками. Охота и рыболовство — это вопросы аренды, лицензий и квот. Право пользования биоресурсами для личного потребления проблему не решает.
Доказывание, что человек относится к коренным малочисленным народам по национальности и занимается охотой или рыболовством в рамках традиционного образа жизни, — отдельное приключение. Часто на местах коренные народы сталкиваются с трудновыполнимыми и даже унизительными условиями и требованиями.
В 2022 году должен заработать реестр лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, но как система будет функционировать — пока сказать сложно.
А есть еще коллизии, связанные с территориями традиционного природопользования, с доступом на особо охраняемые природные территории, с получением компенсаций за загрязнение окружающей среды и проч. Я упрощенно объясняю ситуацию, но смысл в том, что есть законодательная серая зона и коренные народы зачастую оказываются в проигрыше. Нельзя сказать, что государство ничего не делает: есть программы социальной помощи, социальные льготы, но многое решается в ручном режиме на региональном уровне. Активистам, которые представляют коренные народы, хочется пожелать успеха. Это действительно самоотверженные и опытные люди, но им приходится заниматься сложнейшими и неподъемными проблемами. Разумеется, эти люди зависимы от государства и лояльны к нему.
— Заметна ли уже реакция республик на потери последних месяцев?
Влада: Скорее нет. Мне кажется, даже в Калмыкии эти процессы резче интерпретируются. Но тут сложно сказать, потому что, во-первых, здесь нужен количественный анализ, а во-вторых, в регионах последнее время очень часто социальные проблемы интерпретировались как этнические.
Это — важная проблема, о которой надо было на самом деле думать в связи со многими вопросами, связанными с региональным неравенством: с перераспределением доходов, с передачей полномочий федеральному центру, с сокращением возможностей в регионах.
Притом что это была некоторая общая история про знаковые проблемы как для Воронежа, так и для Дагестана. Но во многих регионах эти проблемы интерпретировались этнически: «русские нам делают так». Это довольно плохая история, потому что, как любая этнизация, не дает возможности выстроить солидарность, например, с жителями Воронежа.