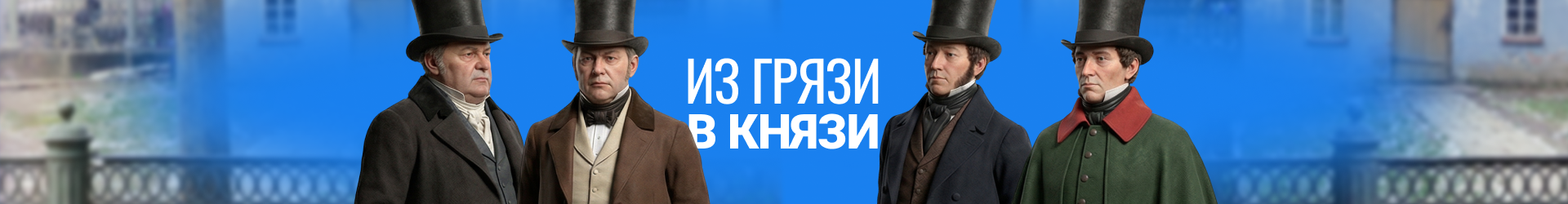Перерабатывая переработку, или Как fast fashion превратила переработку отходов в пустой звук
В 2016 году компания H&M объявила «неделю ресайклинга» и собрала 1000 тонн ненужной одежды. Вот только для ее переработки компании потребовалось бы 12 лет. О том, как корпоративная «зеленая повестка» скрывает продолжающееся неэффективное использование ресурсов планеты и экспорт мусора в страны Глобального Юга, рассказывает Марина Гранатштейн.
С чего всё начиналось
В 2013 году мир облетела благая весть: один из гигантов фаст-фешн, шведский концерн H&M, открыл в своих магазинах первую программу сбора старых вещей на реюз и переработку. Инициатива снискала немало похвал: «первый шаг к сознательности», «наконец-то корпорации задумались», ну или — хотя бы — «лучше что-то, чем ничего». Она также стимулировала продажи: за каждый мешок ношеного текстиля покупатели получали бонусные баллы и ваучер на покупку новых вещей. Открывая раздел сайта, посвященный кампании, мы оказывались в царстве покоя и радости. Прощай, экотревожность! Сам слоган — Let’s close the loop («Давайте закроем цикл» — отсылка к необходимости перехода к экономике замкнутого цикла) — создает стойкое ощущение: заветная цель близка. Только брось ненужную тряпочку в контейнер, и этот самый цикл щелк — и закроется. Уже почти закрылся... еще миллиметрик... почти... Впечатление это, само собой, совершенно ложное.
Гринвошинг, «зеленое отмывание имиджа», часть исследователей определяет как разницу между символическими и реальными действиями, «подмену зеленых дел зелеными разговорами», другие — как стратегию избирательного раскрытия информации: много и охотно говорим о каком-нибудь отдельном выгодном показателе работы, умалчивая как о менее аппетитных деталях, так и о положении дел в целом.
Происходит манипуляция контекстом — от него выборочно отрезают куски так, чтобы оставшаяся в поле зрения информация смотрелась максимально выигрышным образом.
Стратегия, согласимся, эффективная. Представим, что я в чужом доме побила посуду, оскорбила хозяев, покусала собаку за ногу и сорвала со стен обои — зато, придя, принесла с собой букет. Пользуясь методом избирательного раскрытия информации, я могу (ни капли не соврав) сообщить всем вокруг, что вчера «пришла в гости с цветами», создавая впечатление, что я на редкость вежливый и приятный в общении человек.
Единственный способ понять, как дела обстоят на самом деле и чего стоят зеленые инициативы одежных корпораций, — это, во-первых, критически рассмотреть, насколько реальны, а не символичны, действия компаний, а во-вторых, по кусочкам подключить назад контекст, который был (неслучайно) изгнан из поля восприятия.

Арифметика
Все эти годы программа переработки H&M (за которым быстро последовали Zara, Primark, Mango, The North Face и другие компании, также установившие у себя контейнеры для сбора) создавала костяк, основу претензий бренда на стремление к устойчивости и прекрасному будущему. Но давайте включим калькулятор и попробуем разобраться, сколько на самом деле вещей собиралось в рамках инициативы.
Беседы с топ-менеджерами бренда, конечно, не помогут. В 2020 году, на седьмой год работы программы, тогдашняя глава отдела устойчивости H&M Анна Гедда просто сообщает в интервью на форуме Collision, что программа «позволяет спасти много ресурсов». Сколько точно — вам не скажут: «Как жаль, что я не помню, сколько конкретно мы сэкономили. Я знаю, где-то есть точные цифры, но сейчас они не идут в голову».
Можно понять, почему цифры не идут в голову Гедде, ведь они гораздо меньше годятся для рекламы, чем абстрактные рассуждения о прогрессе. По данным сайта Statista, в первый год работы программы собрано было 3047 тонн одежды, во второй — 7684, максимум — 29 005 тонн — был достигнут в 2019-м, всего — 155 897 тонн за девять лет. Но эти цифры мало что значат сами по себе — необходимо знать, сколько за то же самое время компания произвела.
Ни один отчет об устойчивости H&M не выдаст ни общего веса производимых товаров, ни их количества, так что приходится опираться на данные сторонних источников. Еще в 2016 году американский Esquire сообщал, что концерн выкидывает в мир от 550 до 600 миллионов отдельных предметов в год. В 2019-м The New York Times оценила количество производимого уже в 3 миллиарда предметов. Великодушно предположим, что в среднем каждый предмет одежды весит лишь 200 граммов (примерный вес небольшой футболки, в два раза легче джинсов), используем среднее от цифр Esquire и Times. Выйдет, что в конце 2010-х компания снабжала нашу реальность минимум 360 тысячами тонн одежды в год.
Объем собранного по программе переработки ни в один из годов не дотянул даже до одной десятой от веса произведенного в тот же период.
Это еще не всё. По совпадению мы знаем, что в 2018 году у H&M в наличии оставался объем непроданной одежды на 4,3 миллиарда долларов — одна пятая от годовой прибыли. Если в целом вещей производилось — по нижним прикидкам — от 500 миллионов до миллиарда, то одна четверть от этого количества — 100, 150, 200 миллионов вещей, и даже с установленным нами минимальным весом в 200 грамм — уже 20, 30, 40 тысяч тонн. Всё собранное за тот же год по программе переработки едва или вообще не дотягивает до объема одних только лежавших на складах излишков.
Естественно, цифры излишков довольно сильно дискредитируют любые усилия по сбору: становится ясно, что гораздо большего эффекта можно было добиться, просто не производя лишних вещей. Неудивительно, что когда в 2022 году норвежские власти попытались узнать у H&M, сколько точно остается непроданным каждый год, пресс-служба компании заявила, что «количество непроданной одежды не является информацией, связанной с окружающей средой», — это «торговый секрет».
Реюз в фантазиях и в реальности
Известно, что в иерархии ресурсосбережения реюз — повторное использование — стоит выше немедленной переработки. Переработка сама по себе требует затраты ресурсов и часто предполагает даунсайклинг: использование вторсырья для производства предметов, которые, в свою очередь, переработать будет сложнее или вовсе невозможно. Для одежды это ситуация, когда из нее делают изоляцию, набивку для матрасов, тряпки для мытья пола — в конце жизненного цикла они пойдут на свалку либо в МСЗ.
Но что на самом деле представляет собой реюз одежды во времена быстрой моды?
В прошлом году организация Changing Markets опубликовала расследование, длившееся год, с августа 2022-го. С помощью микродатчиков работникам НКО удалось проследить судьбу двадцати одной вещи, отданной в контейнеры целого ряда компаний (H&M, Zara, C&A, Primark, Nike, Boohoo, New Look, The North Face, Uniqlo и M&S) в Англии, Франции, Бельгии и Германии. Выяснить удалось вот что. Семь предметов одежды, несмотря на отличное состояние, были поспешно уничтожены, выброшены на свалку, сожжены или превращены в набивку для матрасов. Среди них — совершенно новые штаны Zara из искусственной кожи. Всего спустя неделю после сдачи в контейнер их порезали на кусочки на одной из фабрик в Германии. Множество вещей «затерялось в лимбе»: год они провели на складах или же в путешествии от одного места хранения к другому (а иногда и вовсе не покидали места сбора).
Только пять предметов нашли новых хозяев на континенте первого использования — три внутри Евросоюза, еще две на Украине. Остальные были отправлены в страны Африки: Республику Конго, Мавританию и Мали.
Вскоре за Changing Markets аналогичное собственное расследование выпустила шведская газета Aftonbladet. Датчики, установленные на десяти вещах, отданных в контейнеры H&M, показали: хотя все вещи были в хорошем состоянии, ни одна из них не осталась в Швеции — даже для первой сортировки, пишет Aftonbladet, их перевезли за 1000 километров в Германию (позже они в совокупности полтора раза объедут землю на транспорте, требующем огромных затрат топлива, — грузовых кораблях и грузовиках). Две вещи немедленно ушли на даунсайклинг, еще две уехали в Румынию (за более чем 3000 километров от места сбора), одна оказалась в Бенине, еще одна — в Индии.

Расследования Changing Markets и Aftonbladet подсвечивают сразу несколько проблем, о каждой из которых говорилось уже давно.
Во-первых, логистические цепочки в реальности никогда — повторимся, никогда — не выглядят такими же чистенькими и аккуратными, как в пресс-релизах заинтересованных лиц (вспомним перемолку, в которую угодили совершенно новые брюки).
Во-вторых: ничто в этом мире не дается бесплатно.
Совокупная дорога вещей из расследования Aftonbladet составила полторы кругосветки — остается только догадываться, сколько СО2 было выброшено в атмосферу.
В-третьих: при всей своей сомнительной эффективности тема реюза (и переработки) активно используется для стимулирования продаж. Согласно Changing Markets, для тринадцати вещей из их исследования сдача текстиля в контейнер сопровождалась выдачей того или иного рода скидок на покупку новых вещей (которые с большой вероятностью тоже скоро пойдут на выброс, ведь в среднем фаст-фешн живет очень недолго).
И в-четвертых (но не в-последних): в бизнес по «пристройству» вещей для реюза запрятан второй, гораздо более значимый — бизнес избавления от отходов первого мира путем отправки их в страны миров второго и третьего.
Хотя ношеные вещи из «развитых» стран отправляли в «неразвитые» (то есть бывшие колонии европейских государств) еще в 1980-х, адвент фаст-фешн усилил этот поток в разы, причем процент вещей, не годных для носки и сразу идущих на свалку, в нем всё растет и растет.
То, что фаст-фешн трудно пристроить для реюза в стране первой покупки, — совершенно логично. Как бы ни росла индустрия секонд-хенда, востребованными в ней будут вовсе не любые вещи. В обеспеченных странах Европы найдется немало желающих купить сумку, пальто, куртку, стоившие 150–200 евро, за треть или четверть от первоначальной цены. Но у граждан «золотого миллиарда» мало мотивации покупать подержанный фаст-фешн, где уценка по определению не может быть большой (так как вещи были дешевы изначально), а долгоиграющее качество никто не гарантирует. Если тобой движет экономия, легче доплатить пару евро и купить новую вещь. А если экосознательность — логичнее купить более дорогую крепкую вещь, которую с большей гарантией можно будет носить много лет.
В итоге, насытив рынок Европы дешевыми вещами, фаст-фешн стал растить гигантские свалки в африканских и азиатских странах — по данным Changing Markets, три сортировщика — партнера одного только H&M за первую половину 2023 года успели отправить только в Гану миллион предметов одежды. Около 40% отправленной одежды становится мусором.
Даже если вынести за скобки все четыре проблемы, указанные выше, и вообразить себе совершенный, волшебный сценарий из корпоративного интервью (произведенные компанией вещи не уехали на свалку к бедному соседу, не попали в перемолку, а счастливо обрели вторую жизнь в стране первой покупки), это не избавляет от одной фундаментальной (и нерешаемой) проблемы.
Реюз, как и всё под этой луной, не вечен. Рано или поздно обветшает что угодно, а к вещам фаст-фешн старость придет особенно быстро. И перед нами снова встанет роковой вопрос: на МСЗ, на свалку или в переработку?
И здесь подходим к следующему кусочку пазла: как на самом деле функционирует переработка текстиля?
Переработка в фантазиях и в реальном мире
Сейчас уже довольно широко известно, что старое текстильное сырье нельзя трансформировать в новое (а можно только добавить вторичное сырье в первичное), что большая часть собранных ношеных вещей вовсе не «превращается» в новые вещи, а идет в даунсайклинг — на изготовление изоляции, тряпок для мытья пола и т. д. Поблагодарить за это нужно, конечно, зеленых блогеро(к) и независимые СМИ, а вовсе не одежные компании. Те молчали до последнего, вместо этого рисуя в рекламе и интервью фантастические образы чудес переработки. Еще в 2016 году экспертка по устойчивости H&M Сесилия Бреннштен заявляла, что цель программы сбора вещей — «создать замкнутый цикл для текстиля, когда вещи, которые больше не нужны хозяевам, могут быть превращены в новые», а реклама коллекции Conscious вторила: «С вашей помощью мы буквально превращаем старую одежду в новые предметы гардероба».
В реальности, как уже сказано выше, ничто ни во что не «превращается». Массовыми методами текстиль перерабатывается тяжело и плохо. Ткани часто включают как натуральные, так и синтетические волокна (например: хлопок и полиэстер, вискозу и эластан), отделить которые друг от друга крайне сложно. Многие предметы одежды состоят из разных деталей, которые нужно разобрать перед переработкой — тяжелый, долгий, затратный с точки зрения энергии и человеко-часов процесс.
Тяжело не только добыть качественное вторсырье, но и добиться его использования. В новые хлопковые вещи можно добавить ограниченное количество переработанного хлопка, иначе качество ткани критически снизится (для денима это примерно 20%).
В результате, как подсчитала в 2016 году британская экоколумнистка Люси Зигл, тому же H&M должно было потребоваться 12 лет, чтобы реально использовать 1000 тонн одежды, собранной в рамках объявленной в том же году «недели ресайклинга».
Многие из тех, кто следят за вопросом, заметят, что в последние годы появились инновационные материалы, новые возможности для переработки смешанных тканей.
Проблема вот в чем: даже если бы текстиль мог перерабатываться в пять раз эффективнее, это не стало бы автоматическим решением проблем. Ведь в реальном мире мало просто иметь технологии — необходимо наладить инфраструктуру сбора вещей, транспортировки, повторного использования.
Самый очевидный пример: стекло. Перерабатывать его умели еще древние римляне. Его легко отчистить от загрязнений, оно превращается в новый материал без потери качества — плавишь да и всё — и так, по сути, до бесконечности. Более того, современную городскую инфраструктуру по сбору стекла во многих странах стали выстраивать десятки лет назад. В общем, сплошные плюсы там, где у текстиля минусы, но, несмотря на всё это, на данный момент в мире перерабатывается только меньшая часть стекла, которое производится каждый год (в США — всего около 33%).
Второй пример: бутылки PET — самый удобный для переработки вид пластика. Их легко собрать и транспортировать, они легко дробятся, превращаясь во вторсырье. Но даже в Евросоюзе с его более-менее налаженной инфраструктурой и заявленной экосознательностью, по данным недавнего доклада Zero Waste Europe, уровень реальной цикличности бутылок невелик. Перерабатывается около 50% бутылок PET, новые бутылки содержат меньше 20% вторсырья, и только 31% сырья, полученного при переработке бутылок, идет на изготовление того же продукта, остальное уходит на даунсайклинг — в предметы PET более низкого качества, нередко одноразовые.
Теперь давайте учтем, что и бутылки, и стекло — вещи однородные и однотипные. Такие предметы и материалы обрабатывать всегда легче. Сравните их с разными предметами одежды, в каждом из которых может присутствовать множество типов волокон и фракций. Неудивительно, что, по наиболее часто приводимым в СМИ данным, в настоящее время только 1% собираемой в мире одежды оказывается переработан в другую одежду.
Реклама, визуальные материалы, интервью менеджеров одежных компаний раз за разом подают нам символическое, потенциальное (и не факт, что вообще достижимое практически) — как реальное. Наличие технологий для переработки предметов представляют как то, что предметы — словно бы — уже превращены во вторичное сырье, а это вторичное сырье — словно бы — уже использовано. Абстрактная возможность приравнивается к уже решенной проблеме в реальном мире. В общем, это примерно как утверждать: то, что каждый человек теоретически (чисто теоретически!) в состоянии заработать миллион долларов, равносильно тому, как если бы миллион уже лежал у каждой и каждого из нас в кармане. Абсурдное с точки зрения физической реальности приравнивание символического к практическому работает на уровне рекламы, успокаивая и утешая потребителя с одной целью: чтобы не переставал покупать, покупать и покупать.

Deus ex machina
Классическая переработка текстиля уныла, тяжела и могла подкармливать разговоры о спасении планеты, только пока широкие массы людей не понимали, что она собой представляет. Когда информация о нерадостной практической реальности процесса заполнила интернет, к корпорациям на помощь пришли «инновации».
В 2020 году H&M анонсировал очередную «революцию в сфере переработки» — создание (в коллаборации с гонконгским Институтом текстиля и одежды) машины Looop. Система Looop — это, по сути, вязальная машина нового поколения. Новый предмет вывязывается из старого материала: машина разбивает сырье на волокна, прядет нити и делает из них новые вещи. Система не использует воды или химикатов, но (предсказуемо) нуждается в добавлении «некоторого количества» (какого конкретно — реклама умалчивает) свежего сырья, потому что — как и при других видах переработки — при разрезании старых вещей волокна ткани укорачиваются. Первую такую машину установили в октябре 2020 года в флагманском офисе H&M в Стокгольме, на Дроттнинггатан, 56. Покупателям предлагалось записаться на определенное время, подождать пять часов (время, нужное для того, чтобы машина могла обработать вещь), а затем забрать видоизмененный продукт в восьми вариантах дизайна.
H&M не скупился на роскошную рекламу нового изобретения. Лицом кампании стала Мейзи Уильямс (известная по роли Арьи Старк), она сообщала:
«Наша общая миссия — закрыть цикл и изменить моду. Давайте будем использовать повторно, переделывать вещи и перерабатывать их. Лупнем! (Looop it). Ты с нами? Вперед!»
Подписи к видео, где старые носки, уезжая в недра автомата, превращаются в розовый пух, а затем — в фиолетовый топ с длинными рукавами, гласили:
«Это история в процессе ее создания. Встречайте машину, которая превращает старое в новое, — присоединитесь к революции переработки!»
В социальной игре Animal Crossing был создан специальный остров с крохотной виртуальной машинкой Looop, без устали перерабатывающей крохотные трогательные виртуальные вещи (с возможностью для пользователей получить виртуальный шарфик).
Но в каком-то смысле обе эти машины — и та, что в Animal Crossing, и та, что на Дроттнинггатан, 56, — скорее виртуальны, чем реальны.
На момент создания Looop мировая индустрия одежды производила по 100 миллиардов предметов одежды в год — по 14 штук на каждого человека на земле. За те пять часов, которые нужны Looop, чтобы переработать всего одну вещь, H&M Group (если верить оценкам The New York Times, приведенным выше) производит сотни тысяч предметов одежды.
Утверждать, что такая машина может как-то фактически, реально помочь с кризисом перепроизводства и перепотребления, — нереально даже в искаженном мире маркетинга. Но прямая ложь и не нужна, если точно такого же эффекта можно добиться, просто перенеся разговор из области подлинного и практического в область символического. Формально, как говорят сами представители H&M, Looop лишь «визуализация» чуда переработки, «символ революции», а не ее техническое средство. Но при этом в каждом ролике, каждом интервью, затрагивающем Looop, они не скупятся на чудные образы прекрасного будущего, на пафосные слова, впечатывающие в мозг покупателя убеждение: благодаря волшебной машине все проблемы решатся буквально завтра, да что там — они уже решены.
Looop действительно осуществляет революцию переработки — только не одной вещи в другую, а практической реальности — в символ. Не имея почти никакого выхлопа в реальной жизни, она имеет огромный — в реальности маркетинга. И хотя на практическом уровне машина — лишь сладкая игрушка для богатого западного потребителя, аттракцион, который позволяет ему или ей ощутить себя частью прекрасного будущего, Looop и аналогичные ей технологии продолжают раз за разом использоваться для утверждения H&M как «зеленой» и ответственной компании.
Переработка бессмысленна
Второе определение гринвошинга связано с избирательной подачей информации, манипулированием контекстом, и тут ничто не может сравниться с Речами об Улучшении и Прогрессе.
Обратимся к сайту Zara (Inditex) — лидера по объемам продаж среди фаст-фешн-гигантов, той самой компании, что первой ввела принцип ротации вещей без привязки к сезону. Их «дискурс устойчивости» не так разработан, богат и сложен, как у ближайшего конкурента — H&M, но что проанализировать — найдется. Вот текст со страницы «Присоединись к жизни» (программы, аналогичной эйчендемовской «Давайте закроем цикл»).
«„Присоединись к жизни“ представляет процесс непрерывного улучшения — всегда задавая себе вопрос, что мы должны делать, чтобы двигаться вперед, к более устойчивой модели. Мы осознаем, что путь сложен, но верим в силу трансформации индустрии. Вот почему наши социальные и энвайронментальные цели стали еще более амбициозными, чтобы мы могли продолжать улучшать себя <...> мы искренне посвящаем себя постоянному улучшению... Мы поставили себе амбициозные цели устойчивости, которые позволяют продолжать прогресс по трансформированию нашей модели, снижая воздействие производства нашей продукции и нашей собственной деятельности на окружающую среду и стараясь генерировать позитивный эффект для людей в сообществах нашего присутствия».
Слов, обозначающих прогресс и будущее, в этом коротком тексте столько, что начинает кружиться голова. Примерно в том же духе составлены почти все программные отчеты об устойчивости. Тот же стиль демонстрируют топ-менеджеры компаний. Например, бывшая глава департамента устойчивости H&M Хелена Хелмерссон, которая в 2022 году в Индии заявила, что «дорога вперед — это цикличность» — утверждение, которое можно понимать как «нам необходимо двигаться к цикличности», но которое в то же время исподволь создает впечатление: сами шаги по дороге из желтого кирпича уже равноценны реальному достижению Изумрудного города. Еще один лежащий на поверхности пример — интервью Анны Гедды 2019 года:
«Как одни из самых крупных игроков индустрии, мы способны не только быть ее частью, но и быть в авангарде изменений на этом пути... Сфера, на которой мы достаточно давно фокусируемся, — сдвиг от линейной к цикличной модели бизнеса, и у нас есть амбиции стать полностью цикличными... мы беспрерывно вводим инновации и развиваем...»
Ну, вы поняли.
Всюду мы видим один и тот же прием: акцент на относительных показателях («уменьшая воздействие...», «вперед к...», «наша дорога к трансформации...», «непрерывно улучшая...», «потратили меньше» и т. д.) — с игнорированием абсолютных чисел и общего контекста. Но дает ли относительное улучшение эффективности хоть что-то для абсолютного? А может быть, оно действует совсем наоборот?
И тут мы подходим к базовой проблеме.
Всего за пару десятилетий большому бизнесу удалось отцепить идею переработки (а также представление о реюзе) от простой физической реальности, превратив ее в нечто абстрактное в вакууме.
«Есть переработка и реюз» (неважно, где, как, в каком объеме, с каким результатом) — значит, всё будет хорошо!
Но правда в том, что с точки зрения ресурсосбережения сама по себе переработка бессмысленна. Это просто еще одно энергозатратное действие, которое ничего не дает природе, а только отнимает у нее способность атмосферы поглощать СО2, чистоту воды, чистоту воздуха. Машины по измельчению старого текстиля, грузовик, который его везет, работают не на энергии добра и веры, они потребляют ресурсы. Взятая изолированно, вне контекста, переработка вредна так же, как любой аналогичный индустриальный процесс. Осмысленной она становится в одном случае: если за счет использования вторичных материалов сокращается использование первичного сырья. Причем сокращается до такой степени, чтобы сокращение это компенсировало дополнительный расход ресурсов и выбросы, связанные с организацией самой переработки.
Возможно ли это в условиях современного капитализма с его постоянным ростом? Главы корпораций и сторонники так называемого зеленого капитализма утверждают, что да. Критики из самых разных сфер — активист(ки), специалист(ки) — социологи, экологи, почвоведы — уверены, что нет. Согласно их точке зрения, переработка может что-то изменить, только если ограничить постоянный рост производства (чего, конечно, никто добровольно делать не собирается — не зря глава H&M Карл Перссон в 2019 году заявлял в интервью, что идеи снижения потребления представляют собой социальную опасность и «приведут к ужасным последствиям»). Критики убеждены: в современных условиях темпы увеличения использования вторсырья никогда не компенсируют темпов экспансии бизнеса. Какой толк, что в этом году компания использовала на N больше вторичного сырья, если одновременный рост производства сожрал на 2N, 3N, 5N больше сырья первичного?
Более того, всё чаще говорится о том, что в модели постоянного роста повышение энергоэффективности может парадоксальным образом вести вовсе не к снижению абсолютного потребления энергии и ресурсов, а к его увеличению.
Примечательно, что, как пишут социологи и специалисты по окружающей среде Джон Беллами Фостер, Бретт Кларк и Ричард Йорк в книге «Планетарный раскол: капитализм против Земли», известен этот принцип стал еще в XIX веке и называется он «парадокс Джевонса».

Парадокс Джевонса
Как пишут Фостер, Кларк и Йорк, в конце XIX века английское общество было крайне озабочено возможным истощением запасов угля, который в те времена был основным двигателем прогресса экономики. Что будет, когда уголь кончится, спрашивали себя англичане? Сможем ли мы растянуть его запасы, если создадим машины, которые потребляют угля меньше, чем сейчас? Реагируя на общественное обсуждение, один из основателей неоклассической экономики Уильям Стенли Джевонс в рекордные сроки написал книгу «Вопрос угля». Он указал, что, вопреки распространенному мнению, истощение запасов угля не может быть скомпенсировано «новыми способами его эффективного и экономичного использования», потому что повышение эффективности в использовании топлива в итоге ведет не к сокращению абсолютного потребления, а к его увеличению:
«Если, к примеру, количество угля, использующееся в доменной печи, уменьшится относительно количества производимого продукта, выгода торговли будет расти, будет привлечен новый капитал, стоимость чугуна упадет, а спрос на него — повысится, и со временем увеличение количества доменных печей более чем покроет экономию от уменьшенного потребления угля в каждой из них. И если таков не всегда бывает результат в отдельной отрасли, нужно помнить, что прогресс в любой отрасли производства вдохновляет повышение активности в большинстве других отраслей и ведет — если не прямо, то косвенным образом — к усилению вторжений в наши угольные пласты».
Джевонс указывал: один из первых паровых двигателей, двигатель Севери, был так неэффективен, что стоимость работы удерживала от его использования:
«Уровень потребности в угле для работы был настолько высок, что в итоге двигатель не потреблял угля вообще».
Последующие модели, такие как двигатель Уатта, вели — с каждым технологическим улучшением — к повышению, а не понижению абсолютного использования угля.
Этот принцип, получивший название «парадокс Джевонса», подтверждался уже множество раз на самых разных примерах — от использования бумаги в офисах в цифровую эпоху до ситуации на дорогах. Как пишут Фостер, Кларк и Йорк об энергоэффективности в США, «совершенствование моторов, повысившее средний пробег на галлон бензина на 30% с 1980 года, не уменьшило использование энергии моторами. Потребление энергии на каждое транспортное средство осталось постоянным, при этом повышение эффективности привело к увеличению не только количества машин и грузовиков на дорогах и к повышению количества проезжаемых ими миль, но и к повышению размера самих машин и усилению их „перформанса“... и хотя США с 1975 года сумели увеличить энергоэффективность в два раза, потребление энергии страной не снизилось, а выросло самым драматическим образом».
Короче говоря, как только появляется возможность повысить энергоэффективность, бизнес просто расширяется, часто — за счет создания новых, ранее не существовавших потребностей, и происходит это в темпах, которые начисто перекрывают всю первоначальную экономию.
Собственно говоря, само возникновение индустрии фаст-фешн можно считать частью парадокса Джевонса. Как пишет Вероника Кассейтли, экспертка по заявлениям об устойчивости в текстильной индустрии, в статье «Так дело с самого начала было в полиэстере?», если бы не изобретение дешевых синтетических тканей в середине ХХ века, фаст-фешн в принципе не сумел бы развиться. Натурального сырья не хватило бы, чтобы «убыстрить» моду до ее нынешней скорости. Именно появление дешевого, менее ресурсоемкого, чем натуральные ткани, полиэстера позволило в разы увеличить производство и ротацию вещей. Развившись на «дешевом» с точки зрения энергии искусственном сырье, индустрия распухла и стала потреблять значительно большие — а не меньшие — объемы сырья натурального.
Не только фаст-фешн
Парадокс Джевонса успел подтвердиться не только в сфере фаст-фешн, но и во многих других сферах — от офисов до ситуации на дорогах. Подмена практического символическим, фиксация на относительных показателях в ущерб абсолютным, легкомысленное отношение к ограничениям планеты — проблема не одних корпораций быстрой моды.
Отцепив идеи реюза и переработки от практической реальности, от контекста, от фактов и арифметики, за короткие десять лет индустрии фаст-фешн удалось превратить вопрос ресурсосбережения — то, что было для нее вызовом, — в еще одну форму рекламы, способ создать иллюзию, что неустойчивую бизнес-модель каким-то образом можно сделать устойчивой.
Пожалуй, единственная важная специфика в том, что корпорации фаст-фешн — одни из самых активно загрязняющих мир компаний, принадлежащих самым богатым в мире людям из списка топ-100, — не просто живут по законам бесконечного роста, а формируют их.
От покупки одежды раз в пару лет человечество перешло к коллекциям два раза в год, потом — к модели Zara и H&M с их постоянной ротацией, теперь к еще более быстрой и деструктивной модели Shein. Простор для роста тут не сдержан почти ничем, ведь одежда — товар высокой эластичности по доходу. Каким бы богатым ни стал человек, он не будет покупать для себя одного тысячу яиц в неделю или сто упаковок туалетной бумаги, а вот одежды можно иметь, будь на то желание, сколько угодно.
На страничке устойчивости компании Mango слева направо записаны три сферы ответственности компании. «Преданность продукту» идет первой, дальше — «Преданность планете» и «Преданность людям». Для того чтобы все мы могли сохранить базу нашего существования для будущих поколений, на первом месте должна стоять преданность планете — или людям, что, в общем-то, одно и то же. Пока во главе угла стоит производство, а планета и люди оказываются на втором, перспективы у нас не слишком хорошие.
Что нам делать?
За последние годы всё больше людей не боятся заявить, что модель быстрой моды не может быть устойчивой просто с точки зрения здравого смысла. Развивается продажа секонд-хенда. В Евросоюзе вводят ограничения, которые расширят ответственность производителя на текстиль (пока текстиль подпадает под расширенную ответственность производителя только во Франции), ужесточат вывоз текстиля за границу и будут стимулировать производство вещей из долгоиграющих и лучше поддающихся переработке материалов. Необоснованные утверждения об «устойчивости» уже подверглись регулированию. Во Франции предлагают ввести тариф на ультрабыструю моду, который будет включен в цену вещей. Сами по себе эти ограничения автоматически вряд ли спасут ситуацию. Теоретическая возможность решить проблему еще не равна ее практическому решению в реальном мире. Базельская конвенция, запрещающая трансграничное движение токсичных отходов, принята множеством стран более тридцати лет назад, но загрязнители продолжают перетекать из первого мира во второй и третий.
Пока мы ждем наступления лучшего будущего, можно заняться тем, чтобы вычистить влияние рынка из своей частной, личной жизни.
Самое действенное и самое очевидное: перестать связывать качество жизни с количеством потребленных вещей. Покупать только то, что сможем использовать реально долго. В данном случае неважно, в каком магазине приобретена вещь — экологичной ее делает не марка и даже не материал, а количество возможных будущих использований. Сейчас популярна формула «тридцати использований»: не покупать ничего, что не планируете надеть 30 раз, — но можно увеличить эту цифру до 50 или 100 носок, а также обратить внимание на секонд-хенды и одежные свопы. Ну и главное — не реагировать, когда нам пытаются навязать искусственные потребности, внушая, что мы не можем быть цельными или «выражать себя» без бесконечной покупки тех или иных рыночных товаров.