Косточка, механика головного мозга и другие. Откуда берутся вымышленные миры
Вымышленные миры берутся либо в творчестве из воображаемого, либо на практике из суггестии социального, под давлением которого у человека возникает так называемый социальный интеллект, считает Федор Гиренок. Какие выводы о социальном можно из этого сделать?
Косточка
В 1875 году Толстой написал рассказ «Косточка». Предназначен он был для детей. О чем он? О том, как взрослеют дети. Как из них исчезает очарование искренности и теплоты непосредственности. Любой ребенок есть самоаффектирующая самость, существование без сущности. Любой взрослый есть говорящее «я», сущность которого лежит в другом. Между детьми и взрослыми пропасть. Перепрыгнет ее только тот, кто примет в свой внутренний мир другого, то есть примет социум и его правила. Вот этот рассказ.
Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке. Ваня никогда не ел слив и всё нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он всё ходил мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед обедом мать сочла сливы и видит — одной нет. Она сказала отцу.
За обедом отец и говорит:
— А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?
Все сказали:
— Нет.
Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже:
— Нет, я не ел.
Тогда отец сказал:
— Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрет. Я этого боюсь.
Ваня побледнел и сказал:
— Нет, я косточку бросил за окошко.
И все засмеялись, а Ваня заплакал.
Рассказ, конечно, не о косточке, а о Ване. Первое, что мы узнаем о нем, — это то, что он никогда не ел слив. Он всё нюхал их. Почему он их не ел, хотя они нравились ему? Потому что мама запретила. Может быть, мама запретила их есть потому, что семья у нее была бедной? Но это не так. Остальные дети сливы видели и, скорее всего, ели. Если это так, то почему бы маме не угостить сливой мальчика до того, как начнется послеобеденная раздача фруктов? Этого делать ей было нельзя, потому что она полагала, что путь Вани к сливе лежит через испытание запретом. Выдержал запрет — следует награда. Не выдержал — следует наказание. И всё это называется воспитанием. Мальчика семья тренировала для жизни в обществе.
Но чем воспитание мальчика отличается от дрессировки животного? На мой взгляд, ничем. Просто Ваня должен учиться быть умным. А быть умным означает быть, как дрессированное животное, послушным. Послушным кому? Другим. Другому нужно, чтобы в нас был ум, ибо посредством этого ума нами (человеком) можно будет руководить.
Ум нужен не Ване, а родителям. Он нужен не для путешествия в воображаемое, а для того, чтобы задним числом оправдывать сделанные в своей жизни глупости и ошибки.
В конце концов Ваня схватил одну сливу и съел. Ему говорили: ты должен учиться властвовать над собой, ты должен уметь управлять собой, чтобы когда-нибудь управлять другими. А он не учился. Родители Вани мыслили абстрактно. Ваня мыслил конкретно.
Второе, что нельзя не заметить в рассказе Толстого, — это чудовищные действия матери Вани, которая, как кладовщик при проверке склада, пересчитывала сливы перед обедом. «Проверка перед обедом» убивает дух семьи, пространство подлинного в доме, но она позволяет установить, не нарушен ли запрет, установленный родителями.
Мама Вани узнала, что запрет нарушен. Одной сливы не хватает. Она сообщает (ябедничает) об этом отцу. Третье действие рассказа связано с отцом. Отец, как следователь Порфирий Петрович в «Преступлении и наказании» Достоевского, гнусным голосом спрашивает у детей, не съел ли кто из них сливу. Сама форма вопроса скрывает в себе возможность того, что слива сама по себе могла куда-то неведомым образом задеваться. Ее могла, например, стащить ворона. Все дети сказали «нет». Они были уже воспитанными. Если все говорят «нет», то тебе трудно затем сказать «да», ибо сказать «да» — означает вступить в борьбу с социальным.

Ваня — плохой борец с социальным. Он вместе со всеми говорит «нет». Он говорит и одновременно с этим краснеет. Почему он краснеет? Потому что ему стыдно. Он говорит не то, что он чувствует. Его затылочное сознание говорит ему: это ты съел сливу. Ты, Ваня, лжец. Ему стыдно перед собой.
Гений Толстого-писателя состоит в том, что он в рассказе «Косточка» показал нам, как появляется сознание у человека. Оно появляется неожиданно (вдруг) в несовпадении человека с самим собой. Нейрофизиологи ищут его сегодня в голове человека. Толстой нашел его за пределами головы.
В четвертом действии Толстой обнаруживает различие между ложью Вани и ложью его отца. Отец говорит, что суть дела не в том, что кто-то съел сливу, а в том, что тот, кто ее проглотил вместе с косточкой, умрет через день.
В отце ложь связана не с сознанием, как у Вани, а с социальным интеллектом.
Отец — иезуит, в котором место сознания занято языком.
Ваня испугался и побледнел. Но этот испуг — это не испуг перед трансцендентным, не страх перед Богом, который всё видит. Это испуг навсегда перед обществом, анонимным другим. Наивный Ваня хотел успокоить отца и сказал, куда он дел косточку.
Сказал и заплакал, ибо понял, что социум обманул его, а ложь является условием всяких коммуникаций.
Механика головного мозга
В 1926 году Всеволод Пудовкин снял научно-популярный фильм «Механика головного мозга», в котором рассказывалось о научных достижениях школы академика Ивана Павлова и утверждалась мысль о том, что человек ничем не отличается от животного. Рефлекс человека на слово ничем не отличается от рефлекса собаки на метроном. У человека формируются такие же условные рефлексы, как и у собак, на которых проводил свои опыты Иван Павлов. В подтверждение этой мысли показывалось выделение слюны у подопытного ребенка.
Опыты, которые сотрудники Павлова проводили на детях, шокируют своей маниакальной уверенностью в том, что нет границы для науки в исследовании человека.
В школе Павлова не принято было говорить о том, чем человек всё-таки отличается от животного. Об этом рассказал позднее Лурия.
На его взгляд, работать с человеком гораздо легче, чем с животными. Животного надо всё время подкармливать, его условный рефлекс требует подкрепления. А человека подкармливать не надо. Ему достаточно слов, вербальных инструкций, и условный рефлекс у него будет сохраняться. Суггестивное действие речи обсуждается в другом учебном фильме, в котором антропологическая реальность растворяется в социальности, в доминирующей роли другого.
Я и другие
В 1971 году режиссер Феликс Соболев снял научно-популярный фильм «Я и другие», в котором рассказывалось о влиянии на человека мнения других людей. В доказательство этой мысли в фильме было показано несколько психологических этюдов, среди которых выделялся эпизод с детьми, которые едят кашу.
Сюжет эпизода прост. За столом сидят пять детей в возрасте около шести лет. Они ждут кашу. Экспериментатор ставит на стол тарелку с кашей, которая с одной стороны сладкая, а с другой — соленая, но дети об этом не знают. Затем исследователь поочередно предлагает детям попробовать эту кашу и сказать, какая она. Первым четырем детям он дает сладкую кашу, и дети говорят, что она сладкая. А пятому ребенку предлагается соленая каша, и, хотя по выражению лица ребенка видно, что кашу ему дали соленую и она ему не нравится, он вслед за остальными детьми говорит, что она сладкая. Разрыв между тем, что говорил ребенок, и тем, что он чувствовал, как раз и должен был подчеркнуть, что человек — это существо социальное и зависит от мнения других. Что же на самом деле следует из этих экспериментов?

Мысль — это всегда новая мысль. Что значит новая? Это значит — не зависимая от того, что думают другие. Если мы хотим быть вместе с другими, нам нужно согласовывать с ними свои мысли. Если же мы хотим думать сами, нам не нужно быть вместе с другими.
Мысль — это не согласованное с другими путешествие в воображаемое, в котором может оказаться истина. Согласованная мысль — это не мысль, а коллективная галлюцинация.
Почему это галлюцинация? Потому что коллектив строится не на разделении в нем труда, а на неразличении в нем подлинного и симуляции. В коллективе можно делать вид, можно казаться, а не быть. В нем думают, что думают, хотя не думают, а делают вид. И отличить одно от другого нельзя. Несогласованные мысли разрушают коллективные галлюцинации. Согласованные мысли разрушают мышление. Вывод, который можно сделать, исходя из эксперимента, состоит в следующем: думать самому очень трудно, любая мысль асоциальна по своей природе.
Социальное есть не что иное, как непрерывно длящаяся согласованная галлюцинация. В эксперименте с детьми проясняется вопрос о смысле слова «социальное». Кажется, что социальное — это некое коллективное действие, предполагающее коллективную чувствительность. То есть ребенок для того, чтобы вместе со всеми сказать «сладкое», должен проигнорировать факт, зарегистрированный чувствами, то есть закрыть глаза на «соленое». Человек отличается от животного тем, что может игнорировать чувственность, обращенную к внешнему миру. Это игнорирование является условием существования воображаемого, которое может отсылать человека к самому себе, а может отсылать к коллективу, средством вхождения в который является симуляция. В любом случае человек вступает в конфликт с реальностью. В результате этого конфликта возникает момент, когда язык заставляет человека видеть то, чего нет, и не видеть то, что есть. В этот момент возникает и длится социальное как согласованная галлюцинация.
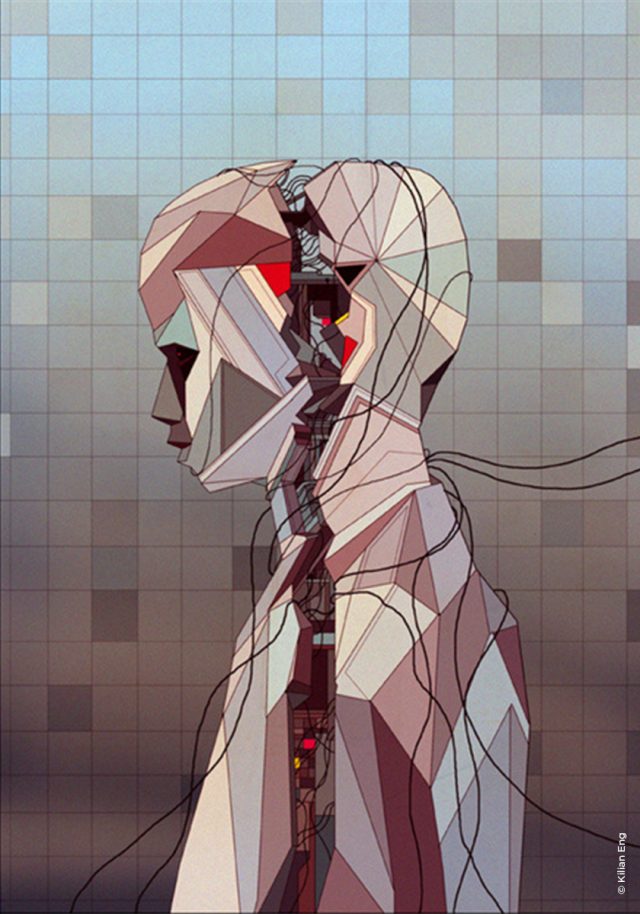
Слепое зрение является условием существования социальности у человека, которая, следовательно, принципиально отличается от социальности у животного. У животного не существует разрыва между тем, что оно чувствует, и тем, как оно себя ведет. У человека социальное является результатом игры воображаемого, симулируемого и реального. Первые четыре ребенка, которые сказали, что каша сладкая, это еще не социум. Это повторение одного и того же. Они сказали то, что чувствуют. А чувствуют они одно и то же. Последний ребенок учреждает социальное, в основе которого лежит самообман. Для того чтобы быть вместе с другими людьми, для того чтобы стать элементом порядка целого, последнему ребенку приходится отказываться от своей чувственности и создавать галлюцинаторное состояние, находясь в котором он видит соленое как «сладкое». Социальность мог учредить и экспериментатор, приказав соленое называть сладким.
Социум — это не просто коллективное действие, групповая ментальность. Это длящаяся посредством языка галлюцинация, в основе которой лежит непрерывно возобновляемый самообман человека.
У детей, которые избежали разрыва между тем, что они говорят, и тем, что они чувствуют, целостное сознание. Они могут сопровождать свои действия словами: «У меня есть сознания». То есть когда они говорят: «Эта каша сладкая», они говорят: «У меня есть сознание, что эта каша сладкая». Сознание этих детей может носить понятийный характер. У последнего ребенка сознание разорванное, шизофреническое. Он не может сказать, что у него есть сознание, что каша, которую он съел, сладкая. У него происходит разрыв между сознанием и языком. У него нет сознания того, что каша сладкая, но он может сказать вместе со всеми, что она сладкая. Иметь сознание и говорить — это разные вещи. В последнем случае язык встает на место сознания, которое в свою очередь распадается на множество дискурсов.
Последний ребенок из опыта с кашей ничем не отличается от тех людей, которых гипнотизировал Пьер Жане. Под гипнозом он внушал участникам эксперимента, что бумажки с крестиками нельзя увидеть. Затем Жане раскладывал перед испытуемыми десять бумажек, шесть из которых были без крестов. На вопрос «Сколько перед ними бумажек?» участники эксперимента говорили: шесть. Иногда Жане писал на бумажке слово «невидимый» и получал тот же результат. То есть испытуемый видел начертание слова «невидимый» и отменял свое зрение, чтобы исполнить в пространстве галлюцинации идеальное содержание слова.
Слепое зрение запрещает человеку видеть что-либо целостное, ибо оно не учреждает предметы, а своей слепотой платит за то, чтобы быть вместе с другими, и платит за это тем, что видит симулякр вместо предмета.
