Пожалуйте в жизнь. О поэтическом реализме Фредерика Уайзмана, американского режиссера-документалиста
1 января американскому режиссеру Фредерику Уайзману исполнилось 93 года. Он снимает документальное кино уже более полувека, а его фильмографию, состоящую из десятков фильмов о самых разных общественных институтах, от школы и полицейского участка до психиатрической лечебницы для преступников и бенедиктинского монастыря, можно назвать портретом западной цивилизации. И хотя Уайзман подчас находит своих героев в довольно необычных сообществах, их всех волнуют вечные проблемы, близкие любому зрителю: столкновение индивида с властными иерархиями, духовные поиски, одиночество. Публикуем первую часть статьи кинокритика Анастасии Алешковской, которая посвящена творческому методу Фредерика Уайзмана и его фильмам, складывающимся в один большой эпический роман о современности.
— А потом мистер Вэйган, для чего-то и без денег, отправил меня в соцзащиту.
— Тогда обсуждайте это с мистером Вэйганом, а не со мной.
— Где мистер Вэйган?
— Он скоро будет. Подождите.
— Конечно. Почему бы не подождать? Я последние 124 дня, как из больницы вышел, только и жду. Чего-то жду. Годо? Вы же знаете, что происходит в истории про Годо? Он так и не приходит. Вот чего я жду — того, что никогда не придет. Равенства, справедливости. В нашем великом демократическом обществе, где все равны перед законом. Что такое равенство? Равенство — это когда у кого-то есть, а у кого-то нет, и тот, у кого нет, пытается обокрасть того, у кого есть. А тот, у кого есть, пытается сохранить то, что у него есть. И нет ничего посередине. Либо у тебя есть, либо нет. Больше нет среднего класса, есть только богатые и бедные. И я один из бедных. Нищий, не бедный. И ощущение неприятное. <...> 40 лет и 7 месяцев я пытался. Видит Бог, я пытался помочь. Теперь я не могу помочь даже себе, не говоря уже о других. Как можно помочь кому-то на 11 центов?
О съемках этого финала документального фильма «Благосостояние» (1975) Фредерик Уайзман вспоминал: в момент, когда речь зашла о Годо, он понял, что вел честную, безгрешную жизнь, и бог решил наградить его.

Описать кинематограф Уайзмана довольно просто. На протяжении 55 лет он показывает, как живут люди. Одновременно с этим описать его почти невозможно. Как именно живут люди? Герой «Благосостояния» — один из уникальных, отчаявшихся персонажей Уайзмана, комментирует положение дел на момент начала 1970-х. Но он немного упрощает. Ему это простительно: он не ел три дня, был пойман и затем отпущен полицией, пока обчищал «Корвет», и пришел в отделение соцобеспечения, чтобы больше не воровать в магазине шоколадные батончики («курица в карман не помещается»). Этот драматичный и талантливо исполненный монолог — результат его горькой жизни и чувства прекрасного, но никак не актерской импровизации. Это самый реальный человек в самых реальных кабинетах нью-йоркского центра соцзащиты.
Почти сто лет назад в «Постановлении Совета Троих от 10/IV — 23 года» Дзига Вертов писал про «путаницу жизни, в которую решительно входят киноглаз, предлагающий свое „вижу“, и кивок-монтажер, организующий минуты жизнестроения». Гостеприимное «пожалуйте в жизнь» — тоже вертовский призыв. Один из величайших кинематографистов точно объяснил, что жизнь нужно увидеть.
Именно этим принципам — видеть и монтировать — верен Уайзман. Они организуют его кино и наш зрительский опыт. Смотреть он умеет, и очень внимательно — и к тому же приучает зрителя. Уайзман снимает кино про людей, но главными героями его фильмов становятся творения людской организационной деятельности — общественные институты. Человек любит порядок и стремится к организованному (пусть иногда непостижимо и крайне парадоксально) существованию.

В ранних картинах Уайзман часто изображал контраст между призванием социально значимых учреждений и истинным влияниям, которое они оказывали на своих клиентов. Удивительное сосуществование индивидуума рядом с большой машиной различных организаций сохранит ключевое место в его творчестве, но постепенно станет рассматриваться Уайзманом не столько с критической, сколько с исследовательской позиции. Показательны «Средняя школа» (1968) и «Средняя школа 2» (1994), в которых репрессивная, подавляющая дух учащихся система в первой части заменяется искренним отношением к человеку и его способностям во второй.
Уже упомянутое «Благосостояние» знакомит зрителя с мироустройством центра социальной защиты — то есть места, которое должно помогать налаживать жизнь тем, кто не справляется сам. Это галерея портретов людей по обе стороны: как нуждающихся в помощи, так и стремящихся или отказывающихся ее предоставить. Та же расстановка сил в «Законе и порядке» (1969), посвященном работе полицейского участка.
Вся фильмография Уайзмана — героическая в своем стремлении попытка познать человеческое поведение в разных его формах и сообществах.
За такими словосочетаниями, как «работа институций» (государственных, культурных) и «жизнь регионов», скрыты калейдоскопические устройства отдельных миров, сложных и бескрайних, будь то в универмаге («Магазин», 1983) или многонациональном районе Нью-Йорка («В Джексон Хайтс», 2015).
Уайзман, без патетики и преувеличения, — летописец эпохи. Внимательно погружаясь в события повседневной жизни, он пишет точный коллективный портрет человеческого сообщества. Исследование человека как социальной единицы органично юридическому образованию Уайзмана. Он никогда не хотел быть практикующим юристом, поэтому зарабатывал преподаванием права. Права человека, которых он часто лишается, и стали центральной темой кинематографа Уайзмана.
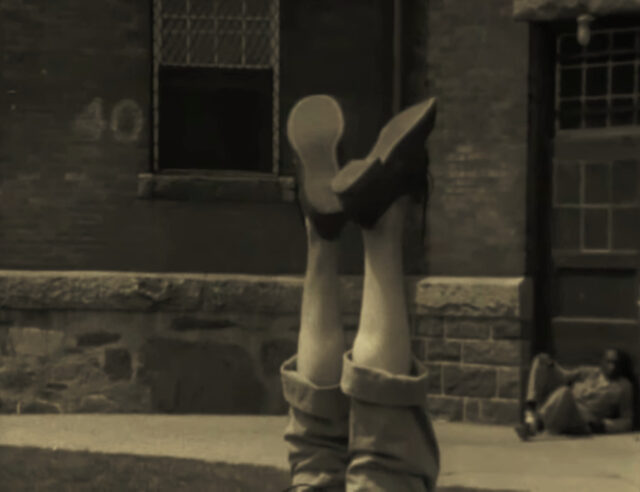
Идею первого фильма, «Безумцы Титиката» (1967), Уайзману подсказала медицинская юриспруденция — одна из дисциплин, которую он преподавал непосредственно «в полевых условиях», привозя студентов в психиатрическую клинику для невменяемых преступников. Целью таких занятий было показать, что происходит с осужденными, не имевшими достойной защиты в суде. Тот же метод знакомства со средой посредством погружения, а не описания, Уайзман обеспечивает своим зрителям. Преодолевая всевозможные границы, обеспечивая максимально близкий контакт с незнакомым местом, Уайзман показывает, что каждый может оказаться на месте участников действия, кем бы они ни были.
Метод осторожного, без вмешательства, наблюдения Уайзмана за аспектами жизни различных институций нередко относят к направлению cinéma vérité (правдивому кино), или его американскому аналогу — direct cinema (прямому кино). В основе обоих — их советский прототип, киноправда Вертова.
Уайзман сопротивляется подобной классификации и отвергает еще одно утвердившееся определение документального кино как fly on the wall (мухи на стене): «Ни одной из знакомых мне мух сознания для съемки фильма не хватит». Принцип внимательного погружения в новую среду, исследования ее границ и законов остается первичным. В отличие от cinéma vérité, Уайзмана не интересуют интервью или искусственно провоцируемые ситуации. Присутствие режиссера абсолютно незаметно и существует только в поле отбираемых им сцен и смонтированных кадров.
Попадая в новую среду, он фиксирует события ровно так, как они происходили бы, не будь его с камерой рядом. Факт съемки полностью исключен из пространства фильма. Герои и учреждения ведут привычную жизнь, в которую оказывается допущен зритель. Однако сильная художественная составляющая уводит кино Уайзмана от чистой репортажности, поэтому он в полушутку называет его reality fiction (вымышленной реальностью), подчеркивая, что все кино — это в первую очередь именно кино, то есть форма искусства, пусть и основанная на жизни. Монтаж — важнейший и гораздо более долгий, чем съемки, этап работы Уайзмана — формирует художественный уровень событий в его фильмах. Темп и контекст сочетания кадров, порядок следования эпизодов делают возможным поэтическое прочтение жизненных фактов.

Фильмы Уайзмана, регулярно показывающие сцены коллективных обсуждений или выступлений в учреждениях, богаты несинхронными монтажными склейками речи говорящего с реакциями слушателей. Режиссер не разрушает реальность, но добавляет еще один слой трактовки увиденного. В «В Беркли» (2013) университетские собрания незаметно сливаются в одно, порционно представленное по ходу действия. Темы сохраняют свою значимость, их обсуждение получает драматичное развитие, а смонтированные воедино сцены, происходившие в разное время, создают странное переживание постоянного дежавю. Меняются комнаты, одежда героев или их позиции за столом, но нить повествования при этом не прерывается.
В этом еще один важный аспект художественной документалистики Уайзмана — вольное обращение с потоком времени и границами пространства.
Они неподвластны логике и подчиняются лишь развитию темы фильма. В ранних работах («Безумцы Титиката», «Средняя школа», «Госпиталь», «Курс молодого бойца») ощущение «слипшегося» хронотопа особенно обострено, что привносит в происходящее театральную условность: мы не покидаем обозначенные границы учреждений, и развернувшиеся в них процессы, будь то медицинская помощь, образование или военные учения, длятся бесконечно. В более поздних произведениях Уайзман иронично напоминает зрителю о таком явлении, как смена времени суток, разбивая событийный ряд крупным планом яркой луны или панорамой залитых солнцем мест действия фильма. Эти кадры никак не влияют на восприятие истории, не выстраивают ее линейный рассказ, наоборот — подчеркивают некоторую анархичность пространственно-временных законов, согласно которым выстраиваются жизненные процессы.

У жизни есть две отметки — начала и конца. Они же совпадают с моментами вступительных и финальных титров фильма Уайзмана. Середину между этими отметками составляют циклично повторяющиеся события. Сколько бы луна ни сменяла на небе солнце, больницы продолжат принимать пациентов, школы — учеников, армии — служащих.
Вечная жизнь институций в фильмах Уайзмана подчеркивается мотивом прочно закрытых пространств. Условность внешнего мира, его непредставимость обеспечена рамками того места, которому посвящена история: больницы («Госпиталь»), бенедиктинского монастыря («Ессей», 1972), исследовательского центра («Примат», 1974), магазина («Магазин»), ипподрома («Ипподром», 1985), горнолыжного курорта («Аспен», 1991), отдельного города («Белфаст, штат Мэн», 1999; «Монровия, Индиана», 2018; «Мэрия», 2020), Парижской оперы («Танец: Балет Парижской оперы», 2009), университета («В Беркли»), боксерского клуба («Боксерский зал», 2010), музея («Национальная галерея», 2014).
Уайзман четко проводит границы повествования, формируя ткань фильма и обеспечивая полное погружение в среду, за пределами которой, за исключением реплик героев, не существует иного мира.
Такая изоляция несет двойной эффект невозможности признать другой мир (например, свободный в «Суде по делам несовершеннолетних» или здоровый в «Безумцах Титиката», «Госпитале», «При смерти») и непреодолимой пропасти перед ним.

За все время действия «Безумцев Титиката» зритель ни разу не покидает лечебницу, из-за чего внешний мир представляется недосягаемым. Это отражено в сюжетной линии с одним из пациентов, Владимиром, попавшим в лечебницу на разовый осмотр и оставшимся там на 15 лет. Его история максимально трагична и литературна. Подобно Гансу Касторпу в «Волшебной горе» Томаса Манна, Владимир случайно оказывается во временном пространстве, подменяющем его представления о реальности. Но, в отличие от Касторпа, Владимир — единственный персонаж в «Безумцах Титиката» и один из немногих бунтовщиков в фильмографии Уайзмана, который безустанно пытается побороть систему и выйти из лечебницы. Герой ясно видит разрушающее влияние клиники и методов работы персонала, о чем он и говорит. Но чаще (и это хорошо показано в «Средней школе» на примере отношения к учащимся) влияние места и действующих на его территории систем власти настолько незаметно, что попавшим под их воздействие проще сохранять пассивность и тихо страдать.
Свой метод работы с материалом Уайзман часто сравнивает с литературным романом. Он дает зрителю максимум информации, погружает в самую гущу событий и побуждает рассуждать, самостоятельно определяя свое отношение к героям и показываемым учреждениям.
Вместо слов у Уайзмана — звук и изображение, вместо письма — монтаж.
Как и в любом литературном произведении, структура играет определяющую роль в уайзмановском кино. Поэтому условность пространства (чем дальше оно вынесено за пределы привычной жизни, тем прочнее с ней связано) становится своего рода двойником, обладающим всеми плохими и хорошими чертами внешнего мира в концентрированной форме. У Томаса Манна туберкулезный санаторий стал отражением Европы перед мировой войной, у Фредерика Уайзмана больницы, кабинеты мэров («Мэрия») и ночные кабаре («Crazy Horse», 2011) поочередно становятся отражением реальности западного (как правило, американского) мира при приближении всех катастроф или нечаянных радостей последнего полувека.

Изоляция «Магазина» от внешнего мира носит характер пугающий. «Есть одно слово. Вся первопричина. Продажи. Простое маленькое слово», — не без удовольствия от разгаданной тайны жизни говорит менеджер громадного универмага «Ниман Маркус». Фильм становится портретом консьюмеризма, который исповедуют в изображаемом месте. В санатории в «Волшебной горе», несмотря на постоянную близость смерти, время буквально останавливается, и пациенты увлеченно ведут привычную жизнь с мелкими заботами и милыми удовольствиями, не заботясь о проблемах большого мира. Та же замершая атмосфера прекрасной эпохи с далласским налетом, где к драгоценным камням в браслетах и складкам-плиссе на юбках можно испытываю неприлично много нежности, пронизывает «Магазин». Уайзман далек от осуждения, но долгие сцены диалогов менеджеров мехового отдела о пошитых из ленинградских соболей шубах — красноречивее любой критики.
Цель магазина — абсолютное и мгновенное удовлетворение любого потребительского желания. Уайзман талантливо запечатлевает закрытые системы с универсальными чертами и всем необходимым для материального и духовного обеспечения. Организованная, изолированная бенедиктинского монастыря (замкнутого мира в себе, чье название и местоположение Уайзман не указывает) в «Ессее» ничем не отличается от жизни любого другого учреждения из коллекции Уайзмана.
Обсуждение насущных вопросов и бытовых забот чередуется с духовными практиками, молитвами и глубоким переживанием одиночества, неприятия и дискоммуникации.

Единственный эпизод выхода за пределы монастыря символично сопряжен с портретным представлением одного из монахов — отца Уилфреда. В простой городской одежде вместо рясы и забавной соломенной шляпе, решительным шагом он направляется в местный магазин за картофелечисткой. Разыгранная в магазине сценка с дружеским подтруниванием над менеджером и легким тоном беседы ярко контрастирует с первым появлением Уилфреда перед камерой. Еще один бунтующий герой Уайзмана, Уилфред не принимает свое окружение в братстве, между ним и другими послушниками царит постоянное напряжение. В первой сцене он спорит с аббатом о том, допустимо ли использование имени собственного в обращении. Уилфред решительно против, приводя в пример «старую английскую поговорку: фамильярность порождает презрение», и отмечая, что чувствует особое неуважение всякий раз, когда к нему обращаются по имени. Эта деталь становится ключевой, потому что в оживленной беседе в магазине менеджер обращается к герою исключительно по имени, и то неверному — Херб.

В «В Беркли», спустя 41 год после «Ессея», эти сцены отзовутся в небольшом эпизоде встречи молодых университетских преподавателей. Лектор отмечает важность обращения к студентам по имени и пользу, которую приносит этот небольшой шаг. Запечатлевая общую многоликую вселенную, Фредерик Уайзман снимает один фильм, пишет один эпический роман, на протяжении десятилетий добавляя главы. Его герои выполняют похожие действия и озадачены общими проблемами. Неизменными сценами каждого фильма становятся проповеди, встречи, совещания, обсуждения и собрания, в конечном счете объединяющиеся в одну композицию с одинаково расставленными столами, за которыми люди всегда собираются вместе, чтобы устроить жизнь свою и общества.
Как все герои Уайзмана, вне зависимости от времени или места, входят в глобальное человеческое сообщество, так и их разговоры складываются в одно долгое обсуждение вечных тем.
Это ощущение непрерывности объединяет все фильмы Уайзмана, свидетельствующие о постоянстве человеческого опыта.
Финальная проповедь аббата, закрывающая «Ессея», образует пару с рассказом реставраторов в «Национальной галерее». Обе сцены строятся вокруг обсуждения библейского сюжета о Марфе и Марии как двух образах христианства — практичном и созерцательном. «Неистовый активизм» и «спокойная мудрость», служащие метафорой реального конфликта послушников ордена в «Ессее», становятся одним из аспектов неоднозначности в изображении реальности, который обсуждают реставраторы на примере картины Веласкеса «Христос в доме Марфы и Марии». Спустя четыре века после создания работы искусствоведам остается только предполагать, где именно изображена каждая из героинь и как трактовал сюжет их взаимоотношений сам Веласкес. Реалистичные образы скрывают тайный смысл, процесс постижения которого намного важнее разгадки. Поэтому Уайзман ценит пространные рассуждения реставратора, а аббат, явно превозносящий качества Марии, заключает: «Когда видишь взаимосвязь, гармонию, единство, состоящее из множеств, тогда обретаешь мудрость». К тому же приучает своего зрителя Уайзман.

Его фильмы подобны мозаике, складывающейся, как и вся жизнь, из неочевидных фрагментов. В «Аспене», помимо панорам горнолыжного курорта, Уайзман приводит зрителя на собрания психологической помощи после развода, курсы рисования и изучения христианских экономических структур, обсуждения пластической хирургии в мужских группах («Я говорю вам: стареть красиво — это стареть с пластическими операциями»). Во время одной из групповых духовных практик собравшиеся обсуждают, как «все едины в духе»: «Мы все разные части духа. Мы как голограммы. Мы все фрагменты. Мы все — части целого. Вместе и по отдельности».
Идея единства бытия, выходящая на первый план в кино Уайзмана, трактуется Люком Сайсоном, куратором выставки Леонардо да Винчи, в «Национальной галерее»:
«Когда вы начинаете работать над выставкой, то первым делом обдумываете все повествование целиком, но вы также отдельно каталогизируете каждую работу, так что в определенный момент все становится мозаикой. И в то же время вы начинаете видеть эти работы вместе. Что меня поражает снова и снова: герои на картинах Леонардо невероятно реальны, жизненны, и в то же время необычайно далеки и чужды. Но все вместе — они одно произведение художника».
Когда Сайсон говорит о способности Леонардо рисовать невидимое, недосягаемое, он одновременно формулирует одну из главных черт кинематографа Уайзмана, документальными средствами выходящего на поэтический уровень повествования. Он невероятно точно рисует портрет одной константы — человека — и его жизни в рамках некоторого сообщества. В любую эпоху этот образ целен и последователен. Эта мысль сообщается повторяющимися, подобно рифмам, почти литературными образами.

Одним из них становится переходящий персонаж уборщика со шваброй, пылесосом или граблями («Ессей», «Благосостояние», «Национальная галерея», «Экслибрис — Нью-Йоркская публичная библиотека», «В Беркли»). У Кшиштофа Кесьлевского в «Двойной жизни Вероники» и всех частях трилогии «Три цвета» тему человеческих взаимоотношений подытоживал повторяющийся образ случайной старушки, которая не справлялась с тяжелыми сумками или пыталась выбросить в мусорный контейнер пустую бутылку. У Уайзмана, считающего, что «стиль одежды человека может и будет меняться, но поведение — нет», одинокая, степенно ступающая фигура уборщика становится символом абсолютного постоянства человеческой природы.
