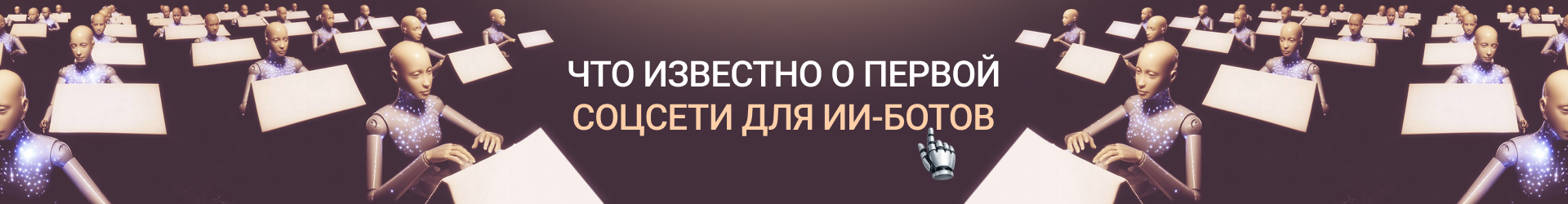Пытки, протесты против Саркози и память о холокосте: в чем философский смысл французского экстремального хоррора
Фильмы, которые относятся к направлению «новый французский экстрим», или к так называемому трансгрессивному хоррору, регулярно попадают в подборки «самых отвратительных» или «самых шокирующих». Их создателей обвиняют в эксплуатации физического насилия, нормализации мизогинии, стремлении впечатлить нарочито эпатажными приемами. По мнению некоторых исследователей, демонстрацию неприкрытой жестокости и повышенное внимание к темам, некомфортным для зрителей, можно считать методологически оправданными, поскольку они позволяют режиссерам осуществлять философскую и политическую критику с необычных позиций. Другие исследователи полагают, что налет интеллектуальности вокруг нового французского экстрима — лишь мишура, которая маскирует стремление повысить интерес к своей работе благодаря шоковым эффектам. В том, какие задачи на самом деле ставят перед собой режиссеры этого направления, разбирается Василий Легейдо.
Объясняя разницу между саспенсом и неожиданностью, режиссер Альфред Хичкок приводил в пример воображаемую сцену: два человека сидят и разговаривают, между ними — стол, а под столом — бомба. Никто ничего не подозревает до тех пор, пока неожиданно не раздается взрыв. «Публика удивлена, но до этого в сцене не происходило абсолютно ничего необычного», — пояснял Хичкок. Такая сцена в своем воздействии на зрителя в первую очередь опиралась бы на неожиданность как на основной кинематографический прием.
Затем Хичкок предлагал представить ту же сцену, но снятую по-другому: бомба находится под столом, и зрители знают об этом заранее — вероятно, им показали, как ее туда поместили. Зрители также знают, что устройство сдетонирует в определенное время, а на столе стоят часы. Та же самая сцена начинает восприниматься совсем по-другому, поскольку те, кто ее смотрит, ожидают неизбежного и отсчитывают минуты до взрыва. Зрителям хочется через экран предупредить персонажей, чтобы те прекратили обсуждать обычные дела и бежали, иначе скоро произойдет нечто ужасное.
«В первом случае мы дали аудитории 15 секунд неожиданности в момент взрыва, — рассуждал Хичкок. — Во втором мы дали аудитории 15 минут саспенса. Вывод состоит в том, что всегда, когда это возможно, зрителей следует держать в курсе. Исключение составляет неожиданный поворот в финале, который является кульминацией истории».
Еще один вывод, который можно сделать из рассуждения режиссера, состоит в том, что зрителей часто больше впечатляет то, чего они не видят, но ожидают, чем то, что демонстрируется им полностью, не оставляя никакого простора для воображения. Изящество своего метода Хичкок видел в том, чтобы, нагнетая напряжение перед чем-то страшным, напугать публику сильнее, чем если бы он во всех красках показал им это страшное: монстра, прячущегося за занавеской, или окровавленные останки, разлетевшиеся по комнате после взрыва.
Такой подход подталкивает зрителей к тому, чтобы додумывать, что же случится. Заметят ли персонажи чемодан под столом и успеют ли вовремя выскочить из комнаты? Иногда недосказанность создает дополнительную интригу и ставит вопрос о природе самой угрозы. Что преследует героев — обычный грабитель или сверхъестественная сущность? Человек с ножом или оборотень с огромными клыками?
Хичкок стал первым режиссером, который эксплицитно объяснил значимость саспенса и сделал его неотъемлемым элементом мейнстримного кино. Долгое время такой подход доминировал в жанре ужасов. Однако уже после смерти Хичкока, в 1980-х, эксперименты с визуальными образами подтолкнули авторов хорроров к отходу от философии создателя «Психо» и «Птиц». Они по-прежнему нагнетали напряжение — например, показывали ничего не подозревающих персонажей глазами неизвестного, который следит за ними из кустов.
Однако хорроры стали намного более натуралистичными и не оставляли такого простора для воображения, как фильмы 1960-х. «Хеллоуин», «Пятница 13-е», «Восставший из ада» — хиты 1980-х во многом полагались на красочные убийства и запоминающихся антагонистов. Жуткие, хоть и предсказуемые смерти, эффектные маски маньяков и лица монстров — в таких фильмах саспенс часто уступал место сиюминутному шоку, который Хичкок называл неожиданностью.
Если 1960-е условно можно назвать в хорроре эрой саспенса, то последние десятилетия XX века стали эпохой эксплуатационного кино, то есть кино, которое использовало вызывавшие повышенный интерес темы и образы, чтобы произвести сильное впечатление в расчете на коммерческий успех. К таким фильмам критики предсказуемо относились пренебрежительно, да и их создатели в большинстве случаев не претендовали на глубокие смыслы.
Эксплуатейшен — это хорроры, под которые убивают подростков в других хоррорах. Атмосфера в них в основном строится на обилии секса и крови, а последовательность, в которой умрут персонажи, становится очевидной через пару минут после их появления на экране. Именно против таких фильмов в Британии при Маргарет Тэтчер боролись отряды цензоров и религиозные активисты.
Для фанатов жанра появление во Франции в конце 1990-х хорроров, которые не вписывались в такую классификацию, стало примечательным событием. По уровню насилия такие картины превосходили самые смелые эксплуатационные фильмы, но при этом, предположительно, содержали в себе философский смысл, социальный подтекст, политическую критику. Такие хорроры сразу вызвали среди зрителей и киноведов бурные обсуждения, но лишь в 2004 году канадский историк кино Джеймс Квандт придумал для уникального направления подходящее название. Поражавшие запредельной жестокостью фильмы стали «новым французским экстримом».
«Провал воображения и морали»
«Критики в своем желании улавливать тренды могли бы назвать такие фильмы новым французским экстримом, — писал Квандт в статье для издания Artforum. — Это кино, которое стремится снести каждое табу на своем пути, продраться через потоки внутренностей и сгустки спермы, заполнить каждый кадр плотью, сексуализированной или изувеченной, подвергнуть ее всем разновидностям проникновения, расчленения и осквернения. Образы и темы, характерные для сплэттеров (фильмы ужасов с акцентом на натуралистичной демонстрации насилия. — Прим. ред.), эксплуатейшена и порно, — групповые изнасилования, избиения, разрезания и ослепления, эрегированные члены и вульвы, каннибализм, садомазохизм и инцест — теперь проникли в среду высокого искусства и национального кино, которое раньше характеризовалось формальным подходом, касалось философских и политических тем и даже в самых неумеренных формах оставалось элементом художественного движения».
Свою статью под названием «Плоть и кровь. Секс и насилие в современном французском кинематографе» Квандт посвятил разбору работ тех режиссеров, которые считались талантливыми интеллектуалами, но внезапно отказались от традиций художественного выражения, бросили вызов всем устоям и начали снимать фильмы экстремальные как по стилю, так и по содержанию. Квандт задался вопросом: не свидетельствует ли формирование такого направления о культурном кризисе? Не является ли новый французский экстрим реакцией на смерть национальной идентичности, языка, идеологии, эстетических форм?
Центральным для анализа Квандта стал фильм профессора философии Брюно Дюмона «29 пальм» 2003 года. По сюжету американский парень Дэвид и русская девушка Катя путешествуют на автомобиле по пустыне в Калифорнии. Они плохо понимают друг друга из-за языкового барьера, часто ссорятся и много занимаются сексом. Посреди путешествия в них врезается машина с тремя мужчинами. Те избивают и насилуют Дэвида на глазах у Кати. Когда нападавшие уезжают, а герои возвращаются в мотель, раненый Дэвид отказывается обращаться в полицию. Он вымещает злость на Кате и убивает ее. В финале полицейский находит в пустыне автомобиль пары с трупом Дэвида внутри.

«Судорожное насилие последнего фильма Брюно Дюмона „29 пальм“ — таранящий другую машину грузовик, жестокое изнасилование, приступ безумия, который завершается убийством и самоубийством, и всё это, умещенное в последние полчаса после долгой, сонливой прелюдии, — поставило в тупик многих зрителей, — писал Квандт. — Особенно тех, кому первые две работы Дюмона, „Жизнь Иисуса“ и „Человечность“, показались достойными преемника Робера Брессона».
Сняв «29 пальм», Дюмон, по мнению Квандта, «поддался моде на шоковую тактику, которая закрепилась в кино за последнее десятилетие». Квандт не сомневался, что расцвет нового французского экстрима свидетельствовал о культурном декадансе и нигилизме, влиянии Голливуда и «провале воображения и морали». Воображения — в том смысле, что такие фильмы буквально в каждом кадре атаковали зрителя, демонстрируя как можно больше подробностей, не оставляя неоднозначности и простора для фантазии. Морали — поскольку такие фильмы, по мнению Квандта, не сообщали ничего важного, глумились над привычным мировосприятием, отрицали старые ценности, не предлагая новых.
«Люди слишком укоренились в своем восприятии реальности, — объяснял Дюмон идею „29 пальм“. — Они уснули, и их необходимо разбудить. Никогда нельзя с уверенностью считать себя человеком. Необходимо, чтобы что-то регулярно бросало тебе вызов, напоминало, что тебе, как человеку, еще многое предстоит сделать. Для этого нужно проснуться».
«Проснуться для чего? — возражал Квандт. — Какую новую или важную истину хочет донести Дюмон до своей аудитории, ради какого такого понимания его зрители нуждаются в подобной пощечине?»
Другой мишенью для критики Квандта стали фильмы режиссера Гаспара Ноэ — короткометражка «Падаль» (1991), основанный на ней полнометражный дебют «Один против всех» (1998) и сенсационная «Необратимость» (2002). В «Падали» рассказывается о мяснике, который после ухода жены один воспитывает немую дочь. Когда у девочки случаются первые месячные, отец, не понимая, что происходит, решает, что ее изнасиловали, нападает на ни в чем не виновного работника и жестоко его ранит. За нападение мясника сажают в тюрьму, где он вступает в травматичные сексуальные отношения с сокамерником. Мясную лавку приходится продать, а дочь героя оказывается в психиатрической лечебнице. Выйдя на свободу, мясник навещает ее, но уходит, не в силах справиться с разочарованием от того, как сложилась его жизнь.
Мясник снова появился в первом полнометражном фильме Ноэ «Один против всех», где повествуется о его жизни после освобождения. На работе мужчину преследуют неудачи, старые знакомые отвергают его, а мысли о дочери неотвратимо сводятся к сексуальным фантазиям. Постепенно мясник проникается ненавистью ко всем окружающим и решает отомстить тем, кто, как он считает, унизили его больше всего.
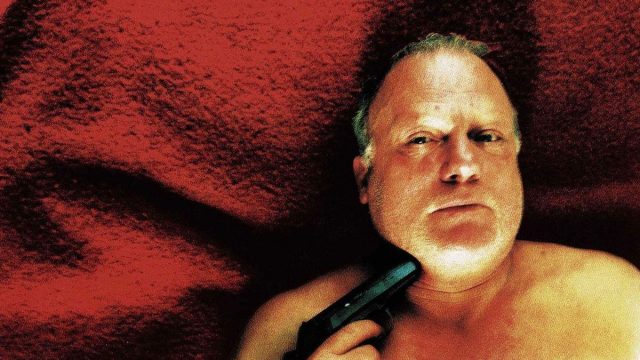
Сам Ноэ так объяснил смысл «Одного против всех» в колонке для The Guardian и ответил на обвинения в том, что снял мизантропическую картину:
«Статью следовало бы назвать „Месть — это человеческая потребность“. Люди есть люди. Будучи людьми, они являются животными. И, как животные, они запрограммированы удовлетворять свои потребности. Дышать. Есть. Пить. Спать. Обниматься. Размножаться. И, если это возможно, ощущать себя свободными. Но последнее сложно реализовать из-за барьеров, которые мешают нам чувствовать себя свободными. Поэтому потребность в свободе трансформируется в потребность мстить. И это нормально. Это человечно. Вам приходится уничтожать барьеры, которые возникают на пути. А большинство из этих барьеров поддерживают другие люди. Класс. Образование. Религия. Иерархия».
Основную идею фильма, которую Квандт охарактеризовал как нигилизм, Ноэ описал скорее как исследование того, что значит быть человеком. Эта же тема стала одной из основных не только для конкретного режиссера, но и для всего направления нового французского экстрима.
Пытаясь разобраться, что представляет из себя само понятие «человечность», кинематографисты, которые снимали предельно натуралистичные картины в конце 1990-х и начале 2000-х во Франции, заглядывали за завесу привычной зрителям культурной и цивилизованной реальности, опускались на самое дно существования, туда, где не находилось места абстрактным рассуждениям о морали и оставались лишь худшие проявления этой самой человечности.
Другим характерным примером поворота во французском кинематографе стал вышедший в 1998 году «Угрюмый» режиссера Филиппа Гранрийе. В нем мужчина по имени Жан на автомобиле следует по маршруту престижной велогонки «Тур де Франс», подбирает и убивает женщин. В основном его жертвами становятся секс-работницы. Зрителям не дается о Жане никакой дополнительной информации, да и сам персонаж за весь фильм произносит всего несколько фраз. Его рутину прерывает встреча с двумя сестрами — Кристин, которая хочет избежать скучной обывательской жизни, и Клэр, которая страдает от тревожности и растерянности. Последняя быстро привязывается к Жану и, несмотря на его угрожающее поведение, думает, что сможет его «спасти», даже после того, как он нападает на Кристин.

«Угрюмый» специально снят в преимущественно мрачных и тусклых тонах, камера часто оказывается в расфокусе, а хаотичный монтаж иногда не позволяет точно понять, что происходит на экране. Как и большинство других режиссеров французского нового экстрима, Гранрийе касается изнанки человеческого существования, которая в реальности часто игнорируется, и показывает ее совсем не так, как в коммерческом кино.
«Угрюмый» снят так, будто цель автора — не завлекать, а, наоборот, отталкивать зрителя, чтобы тот смотрел фильм, не наслаждаясь образами или сюжетом, а вопреки, одновременно испытывая беспокойство, отторжение и отвращение.
Член жюри фестиваля в Локарно, где состоялась премьера «Угрюмого», критик Дерек Элли вспоминал:
«Мы разделились на тех, кому фильм показался оскорбительным с точки зрения морали, и тех, кто увидел смысл в его мрачности и силу — в его мизансценах и образах».
«Шок — это не цель, а средство»
Жестокость, которая некоторым критикам казалась избыточной и чересчур реалистичной, большинство режиссеров нового французского экстрима воспринимали как инструмент, необходимый, чтобы пробиться через наслоение социальных норм и табу. Заставить зрителей обратить внимание на то, что они привыкли игнорировать или воспринимать в стерильном виде под толщей метафор и налетом художественности.
«Они имеют дело с самыми темными составляющими человечности, самыми сложными аспектами нас самих, с тем, о чем нам не хотелось бы говорить, — объясняет канадская исследовательница и авторка книги „Фильмы нового французского экстрима. Внутренний ужас и национальная идентичность“ Александра Уэст. — Они откровенно показывают то, от чего нам становится странно или некомфортно. Они говорят о расизме, ксенофобии, гомофобии, сексуальном насилии и одержимости чувствами».
«Люди настолько привыкли к откровенному насилию, что оно больше ни на кого не производит впечатления, — ответил Ноэ на претензии тех, кто свел его стиль к вульгарности и прославлению жестокости ради жестокости. — Мы все знаем, что кино — это игра между людьми, которые делают фильмы, и людьми, которые их смотрят. Даже дети знают, что персонажи истекают кровью и умирают, но с актерами всё в порядке. Это значит, что, если вы хотите оказать эмоциональное воздействие, вам надо пойти дальше, чем авторы фильмов, которые вы смотрели. Шок — это не цель, это средство».
Рассуждая по поводу «Необратимости» Гаспара Ноэ, Квандт задается риторическим вопросом: «Можно ли всерьез утверждать, что этот фильм делает какое-то важное заявление — эстетическое, политическое, социальное или сексуальное?» Уэст, наоборот, называет «Необратимость» «потрясающим» фильмом, хоть и оговаривается, что он «чрезвычайно тревожный и неприятный».
Анализируя реакцию соотечественника на фильмы, относящиеся к новому французскому экстриму, канадская исследовательница предполагает, что критика Квандта основывается на негативных эмоциях, возникших при просмотре. Она сама, по ее словам, никогда не расстраивалась из-за хоррора так, как после «29 пальм» Дюмона. Однако, в отличие от Квандта, Уэст считает, что такие фильмы нельзя считать аморальными или поверхностными лишь потому, что их авторы затрагивают тяжелые темы и воздействуют на зрителя через неприятные визуальные образы. Она выделяет несколько характерных черт нового французского экстрима:
- В производстве должны участвовать французы, действие обычно тоже происходит во Франции.
- Почти все фильмы направления вышли с конца 1990-х до 2010-го.
- Их авторы часто черпают вдохновение в новой волне американского кинематографа (например, «Один против всех» во многом напоминает «Таксиста» Мартина Скорсезе, а французский хоррор «Граница» 2007 года явно снимался под влиянием «Техасской резни бензопилой»).
- Такие фильмы почти всегда затрагивают современные политические темы и темы, связанные с историей Франции.
- Тематика таких фильмов обычно находится на пересечении интимных, жестоких и романтических отношений.
- Источником вдохновения для режиссеров часто выступает авторское кино, и их фильмы тоже в основном остаются авторскими, а не студийными проектами, то есть в первую очередь выражают творческое и интеллектуальное видение тех, кто их снимает.
- Уместнее считать их не жестокими фильмами, а фильмами о природе жестокости.
Рассуждая о последнем критерии, Уэст противопоставляет новый французский экстрим так называемому torture porn — поджанру ужасов, который тоже характеризуется предельной натуралистичностью, но не содержит политического, социального и философского контекста. Если в фильмах, относящихся к torture porn, насилие действительно используется исключительно для шокового эффекта, то авторы трансгрессивного (то есть выходящего за границы) кино, как еще называют новый французский экстрим, задаются вопросами о причинах и следствиях насилия.
Пытаясь найти ответы, Дюмон, Ноэ и другие режиссеры этого направления рассматривают насилие в контексте личных переживаний и как феномен общественной жизни.
Однако почему такое направление вообще возникло именно в 1990-х и именно во Франции? Критики нового французского экстрима с позиций морали редко задаются такими вопросами, а если всё-таки делают это, то сводят ответ к желанию эпатировать публику, распространившемуся, как эпидемия, даже среди серьезных и талантливых кинематографистов. Но так считают далеко не все.
Театр ужаса и театр жестокости
По мнению Александры Уэст, новый французский экстрим уходит корнями как в культуру, так и в историю страны, в честь которой он получил свое название. В культуру — потому что его создатели во многом вдохновлялись традицией интеллектуального кино 1950-х и 1960-х, творчеством Франсуа Трюффо, Жан-Люка Годара, Луи Маля и других режиссеров, которые активно участвовали в каждом этапе производства.
Эта традиция подразумевала, что фильм должен не только развлекать зрителей интересным сюжетом или красивыми декорациями, но и доносить авторскую идею. Режиссеры нового французского экстрима рассуждали в том же духе, только вместо метафоричности и интеллектуализма предшественников начали обращаться к некомфортным и пугающим визуальным образам. Они считали, что если их фильмы будут слишком «прилизанными», то у них едва ли получится сказать что-то важное и радикальное о стране, обществе, искусстве, насилии и человеке.
«Жизнь во Франции может быть дерьмом, — писал Гаспар Ноэ. — Но жизнь может быть дермом где угодно — от Англии до Венесуэлы. Почему кино должно скрывать это? Многие люди влачат жалкое существование. Многие заняты исключительно выживанием. Всё зависит от того, кто ты, в какой семье ты родился и с кем ты связался. Третий мир — это жестоко. Европа жестока. Жизнь жестока. Но французское кино редко затрагивает тему социальной жестокости».
Одна из основных идей нового французского экстрима — не только как направления, но и как метода — заключается в том, что время метафор прошло: чтобы действительно затронуть темы социальной жестокости, сексуального насилия, политической несправедливости, необходимо говорить обо всём максимально прямо и показывать всё максимально откровенно.
Нельзя позволять зрителю забыть об увиденном через пять минут после финальных титров, дистанцироваться от произведения и сделать его объектом праздной дискуссии. Необходимо, чтобы фильм оставался со зрителем и напоминал о себе, как ночной кошмар.
Франция конца 1990-х и 2000-х — далеко не единственное место, где снимали таким образом. Итальянец Пьер Паоло Пазолини, датчанин Ларс фон Триер и австриец Михаэль Ханеке тоже провоцировали аудиторию тяжелыми темами и некомфортными образами. Однако именно во Франции количество режиссеров, которые снимали таким образом, на протяжении 15 лет увеличилось настолько, что у критиков появился повод условно объединить их в одно методологическое и концептуальное направление.
Ответ на вопрос, почему так случилось, связан как раз с историческими основаниями нового французского экстрима. Уэст и многие другие исследователи считают, что такой стиль сформировался совсем не на пустом месте, а стал логичным следствием всего того, что веками происходило в обществе, политике и культуре страны, — от становления колониальной империи и революций до дела Альфреда Дрейфуса и коллаборационизма в период нацистской оккупации.
«Квандт и другие авторы относятся к этим фильмам так, будто они появились из ниоткуда, без вдохновения или влияния со стороны, но французское кино, как и всё французское искусство, на протяжении своей истории постоянно пыталось выходить за границы, шокировать, бросать зрителю вызов и затрагивать некомфортные темы, — пишет киновед Мэтт Армитедж. — Такие творческие движения рефлексируют над весьма определенными смятениями и тревогами внутри французского общества. Они часто развиваются в период войн, революций и репрессий и представляют собой творческое осмысление травматичных событий».
Рассуждая о связи политического насилия с искусством о насилии, Армитедж приводит в пример события конца XIX века, когда Франция воевала с Северогерманским союзом, предшественником Германской империи. Тогда император Наполеон III попал в плен, а поражение в конфликте привело к падению Второй империи и образованию Третьей республики. Общество находилось в раздрае, Франции пришлось выплатить крупные контрибуции и уступить Эльзас и Лотарингию. Столкновение между революционным правительством и сторонниками республики в мае 1871 года закончилось гибелью более чем 10 тысяч человек, множеством арестов и казней.
Меньше чем через 30 лет после тех событий, в 1897 году, в Париже открылся «театр ужасов» Гран-Гиньоль, который во многом и стилистически, и концептуально напоминал новый французский экстремизм. Главными героями пьес, которые там ставили, обычно выступали представители низших социальных слоев — преступники, секс-работницы, маргинальные элементы, бездомные, люди с психическими заболеваниями. На сцене с немыслимой до тех пор откровенностью демонстрировались сцены насилия и группового помешательства, натуралистичные убийства и изуродованные тела.
Во время представлений в театре регулярно дежурил врач на случай, если кому-то в зале станет плохо. Армитедж сравнивает шок и отвращение, которые вызывали у публики представления в Гран-Гиньоле, с тем, как зрители в Каннах испытывали тошноту и плакали на показе фильма Паскаля Ложье «Мученицы», одного из ключевых произведений нового французского экстрима. И в парижском театре в начале XX века, и на кинофестивале на Лазурном берегу в 2008 году многие покидали зал, не в силах вынести того, что им показывали.
В 1920-х, после окончания Первой мировой войны, в которой потери Франции превысили 1,3 миллиона человек, французский писатель, поэт, режиссер, художник и теоретик искусства Антонен Арто сформулировал концепцию «театра жестокости» — театра, который бросает вызов зрителю и уничтожает привычные границы между вымыслом и реальностью.
Современный театр Арто критиковал за то, что он «стонет в маразме, скуке, инерции и всеобщей глупости». Сам автор выступал против понимания искусства как профессионального занятия выдающихся личностей и клеймил такое понимание за следование логике буржуазного конформизма. Арто считал, что театр должен «прикоснуться к жизни, отказаться от гуманистического и психологического направления», сбросить оковы рациональности и стать мистическим, ритуальным опытом. Искусство, в его понимании, выполняло свое предназначение, если выводило зрителя из равновесия, затрагивало в нем нечто такое, что тот давно похоронил под толщей интеллектуализма и обыденности.
Театр Арто описывал как место абсолютной свободы в том смысле, что именно здесь должны отбрасываться все навязанные обществом предрассудки, которые предполагают шаблонное и поверхностное мировосприятие. Одновременно «театр жестокости» — это абсолютно авторский проект, где видение режиссера значит намного больше, чем смысловые конструкции типа «здравого смысла», «логики сюжета» и «норм морали». Представление в нем используется для «ниспровержения логики и мысли, а шок от него должен раскрыть перед зрителем низменность оснований, на которых зиждется его мир».
В театре нового типа, по словам Арто, «жестокие физические изображения уничтожали и подчиняли бы зрительские чувства».
Жестокость, о которой писал Арто в первой половине XX века, подразумевала внедрение в личное эмоциональное, психологическое, интеллектуальное пространство публики путем отрывочных фраз и ругани, ярких и хаотичных световых эффектов, демонстрации пыток, казней, побоев.
Шок, который могло вызвать такое представление, теоретик театра считал необходимым переживанием на пути к трансформации внутреннего мира зрителя.
Такое понимание во многом роднило его с представителями нового французского экстрима.
«Мои герои располагаются в сфере жестокости и должны быть судимы вне рамок добра и зла, — говорил Арто про спектакль „Ченчи“ о реальных итальянских аристократах, брате и сестре, которые вступили в сговор с мачехой, чтобы убить отца. — Они кровосмесители, неверные супруги, бунтари, повстанцы, святотатцы, богохульники. И эта жестокость, в которой купается все произведение, не вызывается лишь кровавой историей семейства Ченчи, это не чисто телесная, но моральная жестокость, она доходит до грани инстинкта и заставляет актера погружаться до самых корней своего существования, так что он выходит со сцены опустошенным. Жестокость, которая действует и на зрителя, и должна выпускать его из театра не невредимым, а опустошенным, задетым и, может быть, преображенным».
Концепция Арто во многом основывалась на последствиях экзистенциального потрясения, которым обернулась для Франции Первая мировая. Изувеченные ветераны и родственники погибших задавались вопросами о том, ради чего они сами и их близкие несколько лет страдали и гибли в окопах. Казавшиеся незыблемыми ценности в одночасье подверглись тотальной девальвации. Для многих из тех, кто столкнулся с фронтовыми насилием или нищетой и разрухой в тылу, рассуждения о Франции и Европе вообще как оплоте культуры и цивилизации больше ничего не стоили. Именно реакцией на чувства беспомощности, гнева и разочарования и стал «театр жестокости». Арто, как и многими другими интеллектуалами того времени, двигало желание не восстановить прежнюю реальность, а обрести новую, свободную от ложного ощущения порядка и рациональности.
Насилие как «часть человеческого опыта»
«Подлинный театральный опыт сотрясает чувственное спокойствие, освобождает подавленное бессознательное и движет к бунту», — рассуждал Арто. Его описание явно перекликается с тем, как киновед Нэт Бремер характеризовал новый французский экстрим: «Эти фильмы не раздвигают границы, они их уничтожают».
И Арто, и режиссеры, которых критиковал Квандт, во многом исходили из того, что искусство должно быть искренним отображением реальности — мрачной, некомфортной, грязной, полной смерти, секса, насилия, слез, крови и несправедливости. Их спектакли и фильмы жестоки, потому что мир жесток. И Арто, и Гаспар Ноэ посчитали бы, что лицемерно заштриховывать образы и темы своих произведений, чтобы они отображали реальность не настолько буквально, в ситуации, когда люди каждый день угнетают, насилуют, пытают и убивают друг друга всё более изощренными методами, а государство и общество делают вид, что ничего страшного не происходит.
Самая известная сцена из «Необратимости» и, вероятно, из всего нового французского экстрима длится девять минут и изображает снятое одним планом изнасилование героини Моники Беллуччи. Из-за нее критики обвинили Ноэ, как это часто бывало с представителями того же направления, в эксплуатации жестокости ради шокового эффекта. Однако сам режиссер утверждал, что снял эту сцену таким образом лишь для того, чтобы напомнить, что «насилие — это часть жизни и человеческого опыта». «У меня возникают проблемы с французскими критиками, потому что им не нравится, когда Францию показывают таким образом», — рассуждал режиссер. Киновед Мэтт Бойд Смит тоже обращает внимание на парадокс, возникающий, когда новых французских экстремалов упрекают в вульгарных попытках воздействовать на зрителя, в то время как их фильмы в действительности представляют собой попытку искренне отобразить экзистенциальный ужас от происходящего в реальности.
«Меня больше всего удивляет, что Ноэ действовал открыто и искренне, но в ответ получил поток недовольства, — пишет Смит. — Изнасилование в его фильме ужасно, потому что изнасилование должно быть ужасным. Долгая съемка и отсутствие других планов представляют собой социальный комментарий к сексуализации сцен изнасилования в кино».
Идеи, образы и смыслы, заложенные Ноэ в «Необратимости», почти полностью соответствуют концепции «ужасного театра». Как и Арто, современный французский режиссер попытался воздействовать на восприятие зрителя радикальными методами — не только через демонстрацию насилия, но и полностью изменив порядок сцен в своем фильме. «Необратимость» начинается с того, как двое мужчин, Маркус и Пьер, убивают человека, который, как они думают, напал на беременную жену Маркуса Алекс, изнасиловал ее и тяжело ранил. Позже становится ясно, что настоящий преступник всё это время стоял рядом и наблюдал за тем, как герои мстили случайной жертве. Завершается же фильм тем, с чего хронологически должен был начаться: Алекс узнает, что беременна, и решает отправиться на вечеринку с Маркусом и Пьером.
В короткой сцене в самом финале Алекс читает книгу «Эксперимент со временем», а потом засыпает. На экране возникает фраза: «Время всё разрушает». Такой конец можно, с одной стороны, рассматривать как намек на то, что случившееся — сон героини, а с другой — как режиссерский прием, направленный на то, чтобы в духе учения Арто расшатать привычные зрительские установки, заставить воспринимать реальность не так, как она обычно изображается в кино.
«Необратимость», с одной стороны, сюрреалистична, поскольку события в ней идут в обратном порядке, а с другой — предельно прозаична, поскольку в ней без всяких недосказанностей показываются вполне обыденные события: изнасилование в подворотне, случайное убийство, безнаказанность виновного. Именно такой дуализм абстрактного и натуралистического ставил в основу своей концепции Арто, когда рассуждал о подлинном предназначении театра.
Борьба против забвения
Те ощущения, которые возникли у французских интеллектуалов после Франко-прусской войны в начале 1870-х и после Первой мировой войны, только усилились во второй половине XX века, после Второй мировой и четырех лет нацистской оккупации.
Несмотря на вроде бы триумфальное освобождение и участие в победе над Третьим рейхом, возникновение Четвертой, а затем и Пятой республики, общество оставалось разделенным. Преступления бывших коллаборационистов не расследовались, а участники Сопротивления, коммунистические активисты и жертвы нацистских преступлений всё чаще замечали, что соотечественникам хочется не прорабатывать национальную травму, а забыть о случившемся и вернуться к «нормальной» жизни.
Рефлексия над опытом оккупации в сознании французских кинематографистов в конце 1950-х переплеталась с крахом колониальных ценностей, определявших национальное мировоззрение до Второй мировой. Война за независимость Алжира, которая сопровождалась многочисленными преступлениями со стороны представителей метрополии, нанесла очередной сокрушительный удар по идиллическому представлению европейских интеллектуалов о западном мире как об оплоте гуманизма и цивилизованности. Параллельно преобладающей тенденцией в государственном дискурсе становилось полное игнорирование любых неоднозначных событий, будь то коллаборационизм при нацистах или пытки подозреваемых в политическом активизме жителей колоний.
Разочарование, вызванное лицемерием вроде бы демократических властей, находило отражение в творчестве — например, один из самых известных представителей французской новой волны Луи Маль затронул тему сотрудничества с оккупантами в фильме «Лакомб Люсьен» 1974 года. Главный герой, 17-летний подросток из провинции, пытается вступить в Сопротивление, но ему отказывают из-за возраста. Тогда он присоединяется к французскому отделению гестапо и выдает карателям местного лидера партизан. Параллельно Люсьен влюбляется в еврейку, пытается обезопасить ее и вывезти в нейтральную Испанию.
Фильм вызвал большой ажиотаж сразу по двум причинам: во-первых, коллаборационист в нем предстал не фанатичным монстром, а обычным человеком, чуждым идеологии; а во-вторых, Маль осмелился напомнить французскому обществу, что далеко не все местные поддерживали Сопротивление и боролись против оккупационного режима. Откровенность режиссера, несмотря на международное признание критиков, у него на родине вызвала волну возмущения: даже спустя почти 30 лет после окончания войны многие по-прежнему не были готовы переосмыслить героический дискурс и принять неприглядную истину о том периоде.
«Скорость, с которой Франция после войны трансформировалась из сельскохозяйственной, имперской и католической в полностью индустриализированную, деколонизированную страну, ориентированную на городских жителей, означала, что процессы модернизации обрушились на общество, которое во многом еще придерживалось довоенных взглядов», — описывает социальные трансформации 1950-х и 1960-х специалистка в области культурологии Кристин Росс. Отказ властей и общества от неудобного прошлого ради перехода к новому миропорядку стал одной из основных тем для рефлексии в рамках нового французского экстрима. Гаспар Ноэ прямо рассуждал об этом, когда говорил о стремлении к мести как об одном из критериев человечности:
«У нас у всех есть враги. Иногда наши враги — это концепты или социальные структуры. Иногда это люди. Когда я снимал „Один против всех“, то мне было ясно, кто мои враги. К ним относились прогорклые коллаборационисты, которые никуда не исчезли со времен Второй мировой, и богатые телевизионщики, которые отказывались вкладываться в мои съемки».
Киновед Мэтт Армитедж называет главного героя «Одного против всех» — одержимого обидой на весь мир, ненавистью к иммигрантам и сексуальными фантазиями о собственной дочери мясника — воплощением праворадикальной ненависти.
Выход фильма совпал с ростом популярности во Франции консервативной националистической партии «Национальный фронт». Многие представители французского нового экстрима противопоставляли политике забвения, которой почти полвека придерживались власти страны, максимально откровенную демонстрацию всего самого неприглядного, что есть в жизни. Логика такого кинематографического высказывания подразумевала, что если молчать о травматичных событиях прошлого и ужасах настоящего, то ничто не помешает им происходить снова и снова.
Режиссеры старались показать аспекты реальности, которые табуировались и игнорировались политическими и экономическими элитами.
«На протяжении нескольких десятилетий до формирования нового французского экстрима общественная жизнь в стране определялась через чистоту и незапятнанность, — объясняет исследовательница Александра Уэст. — Люди как бы говорили: „Мы не творили эти ужасные вещи. Это был кто-то еще. Мы больше их не знаем“. А потом на аудиторию обрушились кровь, кишки, злость и обида этих фильмов. Всё то, что предыдущие поколения старались приглушить, теперь вышло наружу».
«Мы ненавидим Саркози и его политику»
Впрочем, было бы неправильно рассуждать о французском новом экстриме как о направлении, обращенном преимущественно в прошлое. Относящиеся к нему режиссеры скорее концентрировались на том, как прошлое проникает в настоящее, и на том, как попытки игнорировать насилие вековой давности позволяют насилию повторяться снова и снова, принимая всё более невообразимые формы. Именно этой теме посвящен, например, фильм «Граница» 2007 года режиссера Ксавье Жанса.
Действие «Границы» происходит в разгар президентской гонки во Франции, когда во второй тур проходит ультраправый кандидат, из-за чего на улицах начинаются массовые протесты и потасовки. Группа молодых людей арабского происхождения, пользуясь возникшим хаосом, совершает ограбление, ранит полицейского и сбегает в пригород, надеясь добраться до Нидерландов. По пути они останавливаются в маленьком мотеле в глуши, чтобы немного отдохнуть.
К несчастью для героев, хозяевами гостиницы оказывается семья нацистов-каннибалов. Патриарх клана фон Гайслер сбежал из рейха после поражения во Второй мировой. Теперь он и его дети похищают случайных путников и съедают их, а женщин иногда используют, чтобы «разбавить потомство». Нетрудно догадаться, что в основе «Границы» — социальный конфликт между ультраправыми движениями, которые набирали силу во Франции в 2000-х, и мусульманским населением, которое стигматизировалось и подвергалось травле со стороны не только радикалов, но и политического истеблишмента.
«Подъем националистических движений во Франции вдохновил или, вернее, расстроил Жанса достаточно, чтобы снять „Границу“, — анализирует фильм критик К. Х. Ньюэлл. — Сюжет фильма — это микрокосм французской политики, основанный на выборах 2002 года, когда лидер „Национального фронта“ Жан-Мари Ле Пен набрал почти 17 процентов голосов. Четверо молодых мусульман оказываются в западне на ферме неонацистов, примерно так же, как граждане оказываются подвластны прихотям правых политиков. Последние не только не беспокоятся об интересах таких граждан, но даже не считают их до конца людьми».
Режиссер Ксавье Жанс подсветил тему разобщенности общества и роста популярности правых радикалов, выбрав местом действия «Границы» департамент Валь-д’Уаз на севере центральной части Франции. Именно там в годы Второй мировой располагались два нацистских лагеря: Энкур, где содержались многие члены компартии, и Лина-Монлери, куда депортировали представителей этнической группы рома.
Визуальные образы в «Границе» тоже явно отсылают к периоду оккупации: участок каннибалов окружен колючей проволокой, а постройки на нем легко принять за заброшенный лагерь. Одного из персонажей запирают в парилке, где он погибает от высокой температуры. Образ умоляющего о спасении человека, окруженного облаком пара, представляет собой очевидную визуальную метафору того, как поступали со своими жертвами нацисты.

Дети фон Гайслеров, которые родились с генетическими отклонениями из-за инцеста, в фильме Жанса символизируют поколения коллаборационистов и правых радикалов, которые продолжали вести прежнюю жизнь после войны и оккупации, не испытывая никаких проблем из-за своего преступного прошлого. «Франция годами отрицала участие в полицейских облавах, которые приводили к арестам и депортациям тысяч евреев, — продолжает критик К. Х. Ньюэлл. — Дети, родившиеся от инцеста, в „Границе“ живут в заброшенной шахте. О них забыли, их намеренно скрыли под землей. Они олицетворяют добровольное сокрытие своего прошлого, которое полвека осуществляла Франция».
В центре внимания режиссеров нового французского экстрима вообще часто оказывается противоречие между внешней иллюзией благополучия и статусом одной из самых передовых стран мира, с одной стороны, и максимальной разобщенностью и атмосферой ненависти — с другой. Атмосфера, в которой полиция игнорирует ксенофобов и неонацистов, но с предубеждением относится к мусульманам и применяет против них физическое насилие, мотивировала многих кинематографистов 2000-х снимать фильмы-предупреждения, обличать пороки общества и государства, напоминать зрителям о том, что холокост, режим Виши и газовые камеры — это не просто страшные байки из далекого прошлого.
Одним из центральных событий, над которыми рефлексировали Жанс и другие кинематографисты того же направления, стали массовые беспорядки во Франции в 2005 году. Протесты вспыхнули после гибели двух подростков тунисского и мавританского происхождения от удара током в трансформаторной будке, где они прятались от полиции. Случившееся обострило противоречия, которые назревали десятилетиями: жители пригородов, преимущественно населенных выходцами из бывших колоний, сталкивались с предвзятым отношением со стороны государства.
При президенте Николя Саркози власти сократили расходы на социальную сферу. Уровень образования в кварталах, где в основном проживали этнические меньшинства, резко отличался в худшую сторону от уровня образования в «белых» кварталах. Работодатели безосновательно отказывали людям арабского происхождения, а полицейские неоправданно часто применяли к ним насилие. Все эти факторы в 2005 году привели к масштабным столкновениями между «цветным» населением и силовиками. За три недели с конца октября по начало ноября протестующие сожгли более 8000 автомобилей, а полиция задержала 2760 человек.
В 2007 году ситуация повторилась, когда полицейские сбили на машине мотоцикл с двумя подростками и скрылись, не оказав раненым первую помощь. Оба пострадавших погибли, из-за чего страну охватили новые беспорядки. Недовольные пренебрежением и равнодушием властей к их проблемам протестующие сжигали рестораны и автомобили, нападали на полицейских, громили магазины и госучреждения.
Рефлексируя над этими событиями, режиссеры нового французского экстрима винили власти в бесчеловечности и неготовности принять ответственность за благополучие всех граждан, независимо от происхождения. Тема беспорядков 2000-х оказалась тесно переплетена с неудобным прошлым: многие выходцы из колоний переезжали во Францию, поскольку уровень жизни у них на родине падал из-за эксплуататорской политики метрополии. Однако когда во второй половине XX века заморским территориям предоставили независимость, власти и белые французы начали относиться к людям арабского происхождения как к гражданам второго сорта, которые вторглись в их страну и безосновательно претендовали на блага первого мира.
Критически высказались о пренебрежении правительства к гражданам мусульманского происхождения и режиссеры фильма 2007 года À l’intérieur («Внутри»), название которого на русский язык официально перевели как «Месть нерожденному», Александр Бустийо и Жюльен Мори. По сюжету неизвестная вламывается в дом к беременной женщине Саре, чей муж погиб несколько месяцев назад в автомобильной катастрофе, накануне родов и пытается убить ее ножницами.

События в доме, где Сара борется за свою жизнь и за жизнь своего ребенка, перекликаются с происходящим на улицах, где уже несколько недель продолжаются беспорядки. Затронув, пожалуй, самую табуированную тему в кинематографе — угрозу беременной женщине и младенцу внутри нее, — авторы «Мести нерожденному» показали, насколько иллюзорным может быть ощущение безопасности во Франции. Дом героини можно интерпретировать как страну, вопреки заверениям властей охваченную разногласиями, насилием и несправедливостью.
Вторая идея фильма заключается в том, что список угроз в странах первого мира не должен сводиться к представителям этнических меньшинств, как это часто происходит в Европе. В «Мести нерожденному» случайный задержанный, которого приводят в дом героини прибывшие на вызов полицейские, оказывается единственным персонажем, который не совершает никакого насилия, а лишь испытывает ужас от происходящего. Основной конфликт разгорается между двумя белыми женщинами, а раненный антагонисткой полицейский теряет рассудок и из спасителя превращается для героини в еще одну угрозу.
«Документальные кадры протестов были очень важны, поскольку это единственные по-настоящему жестокие сцены во всем фильме, — объясняет свою задумку режиссер „Мести нерожденному“ Александр Бустийо. — Мы ненавидим Саркози и его политику. Я живу в одном из крупнейших пригородов Европы, и когда я слышу, как президент оскорбляет тех, кто там живет, я разделяю злость своих соседей».
По мнению исследовательницы Александры Уэст, цель режиссеров нового экстрима состоит в том, чтобы показать Францию такой, какая она есть, а не такой, какой она пытается казаться. Однако политика — далеко не единственная тема, которая интересует представителей этого направления. Они часто задаются вопросами о природе индивидуального человеческого существования и о смыслах, которыми люди наделяют свою жизнь. Один из самых ярких примеров такого подхода — уже упомянутый фильм «Мученицы» (2008) режиссера Паскаля Ложье, который некоторые критики хвалили за философскую глубину, а другие упрекали в мизогинии и нормализации насилия против женщин.
«Мученицы» начинаются как классическая история о мести. Девочка Люси, которую в 1970-х похитили и почти год держали взаперти на заброшенной скотобойне неизвестные, сбегает и растет в приюте. Там она сближается с ровесницей Анной. Они становятся лучшими подругами, вступают в отношения и 15 лет ищут похитителей Люси. Наконец, Люси узнает на снимке из случайной газетной вырезки супругов, которые издевались над ней, когда она была маленькой. Девушки отправляются в дом к похитителям. Люси, столкнувшись с ними лицом к лицу, убивает всю семью, чем повергает Анну в шок. Под воздействием галлюцинаций, которые продолжались у нее всё время после побега, и считая, что подруга ей не верит, Люси совершает суицид. Оставшись одна в доме, Анна находит люк в подвал, а там — женщину со следами пыток.
Выясняется, что убитые Люси супруги состояли в тайном обществе, которое десятилетиями похищало людей и подвергало их истязаниям, чтобы те, оставаясь живыми, пересекли границу между жизнью и смертью и увидели, а затем рассказали, что находится по ту сторону. Тех, кого удается довести до такого особого состояния, члены общества называют «мученицами».
Моральная сторона пыток совсем не беспокоит похитителей. Для них происходящее с жертвами — лишь способ раскрыть тайну загробной жизни.
Они пытаются проделать то же самое с Анной: похищают ее, пытают и надеются, что она расскажет им, что увидела, полностью отрешившись от земной жизни. Так и происходит — Анна становится первой, кому удается пересказать свой опыт. Зрители так и не узнают, что она увидела, но руководительница тайного общества, пообщавшись с «мученицей», убивает себя, а последователям перед самоубийством советует «продолжать сомневаться».
Одна из возможных интерпретаций фильма Ложье заключается в том, что именно неопределенность относительно смысла жизни и относительно того, что ждет людей после смерти, придает смысл их существованию. Получив ответ на вопрос, что находится по ту сторону границы, мучительница Люси и других девушек либо решает поскорее убить себя, чтобы приобщиться к чуду, либо узнает, что на самом деле ее ничего не ждет, и осознает, что ее проект по созданию «мучениц» оказался бесполезен. В обоих случаях земная жизнь утрачивает всякую ценность: она либо служит болезненной прелюдией к вечному блаженству, либо является молниеносной искрой в беспросветном мраке.
«Для меня привлекательность этих фильмов заключается в их неприкрытом нигилизме, — рассуждает о новом французском экстриме киновед Мэтт Бойд Смит. — В них мы снова и снова сталкиваемся не только со своей смертностью, но и с реальной вероятностью того, что по другую сторону нас ждут исключительно тьма и пустота».
Сам Ложье так объяснял главную идею «Мучениц»:
«Для меня мученик — это тот, кто, не имея другого выбора, кроме как страдать, решает сделать что-то с этой болью. Конечно, это экстремальная и полностью свободная от иллюзий проекция того, что я пытался рассказать о сегодняшнем мире. Поскольку мы ни во что не верим, поскольку мир всё более радикально делится на победителей и проигравших, то что остается проигравшим, кроме как делать что-то со своей болью?»
В ответ на обвинения в культивировании насилия и фетишизации жестокости Ложье ответил, что его фильм — это в первую очередь история не о пытках и страданиях, а о любви. Именно безусловная и абсолютная любовь Анны к Люси толкает ее к тому, чтобы помочь ей в поиске своих похитителей, и в конце концов приводит ее в дом, где она сама подвергается тем же истязаниям, которым до нее подвергалась Люси. Ее мучители же воспринимают жизнь исключительно как пролог к чему-то большему, поэтому полностью игнорируют хрупкость и красоту чувств, которые один человек может испытывать к другому.
«Мир и его тривиальная реальность фатальны для таких людей, как Анна, — продолжал Ложье. — Я никогда не стремился вызвать у зрителей чувство отвращения. Мне грустно, когда критики описывают мой фильм как мясорубку. Я бы хотел, чтобы он затронул зрителей, ввел их в состояние глубокой меланхолии, как та, которую я испытывал, когда я его снимал, потому что, на мой взгляд, „Мученицы“ — это на самом деле мелодрама. Тяжелая, жестокая и некомфортная, но мелодрама».
Определяя «Мучениц» как мелодраму, Ложье затрагивает еще одну тему, характерную для французского нового экстрима и его критического анализа: жанровую неопределенность. Исследовательница Александра Уэст разделяет фильмы этого направления на две категории. К первой, условно названной ей артхаусом, относятся картины, которые в основном выходили с конца 1990-х до середины 2000-х: «Угрюмый», «Необратимость», «Что ни день, то неприятности», «Пола Икс», «29 пальм», «В моей коже».
Все эти фильмы, хоть и затрагивают темы насилия, жестокости, ненависти, трудно назвать хоррорами в привычном смысле, поскольку они не полагаются на характерные для этого жанра тропы, а структурно и визуально скорее напоминают авторские драмы.
Фильмы из второй категории в основном выходили с середины до конца 2000-х. К ним относятся «Граница», «Месть нерожденному», «Мученицы», «Они», «Свора». Все они намного больше напоминают фильмы ужасов в привычном смысле этого слова, чем их предшественники: это истории о группе молодых людей, которые пытаются спастись от маньяков, или о женщине, которая противостоит неизвестной преследовательнице. И хотя они, как и более ранние картины нового французского экстрима, представляют собой не просто эксплуатацию жестокости и упражнение в torture porn, а еще и политическую и философскую критику, в них намного проще усмотреть наследие американских слэшеров и сплэттеров.
Например, фильм 2004 года, с которого и начался второй этап в истории направления, — «Кровавая жатва» (на самом деле на русский переводится как «Высокое напряжение») режиссера Александра Ажа — рассказывает о девушке, приехавшей в гости к подруге и ее семье в уединенный дом в сельской местности. Однако вместо отдыха и учебы в приятной компании ей приходится спасаться от вломившегося посреди ночи маньяка. Тот бродит по дому, убивает всех остальных родственников и собаку. Героиня сначала прячется от него, а затем преследует, чтобы освободить похищенную им подругу. Неожиданная кульминация в последние пять минут переворачивает смысл всего фильма, но до этого момента «Кровавая жатва» кажется не интеллектуальной авторской драмой с натуралистичными сценами, а весьма традиционным слэшером с европейским колоритом.

Объединять фильм Александра Ажа в одно направление с «Необратимостью» или «Мученицами» можно только условно. По мнению Александры Уэст, именно неподвластность нового французского экстрима классификации так раздражает многих критиков и заставляет их упрекать режиссеров в вульгарности. Джеймс Квандт, невольно «придумавший» это направление, полностью отрицал его концептуальную, интеллектуальную и визуальную значимость, поскольку фильмы, которые он рассматривал, нельзя было однозначно считать ни тонкими авторскими драмами, ни кровавыми эксплуатейшен-хоррорами.
Однако оппоненты Квандта ценят новый французский экстрим именно за способность режиссеров уворачиваться от жанровых стереотипов и превосходить ожидания зрителей. Тех, кто ждет исключительно зрелищных убийств и погонь, они сбивают с толку отсылками к политике и истории. Тех, кто рассчитывает на меланхоличное и неторопливое повествование, насыщенное метафорами и рассуждениями о национальной идентичности и индивидуальном существовании, они заставляют вжиматься в кресло от обилия насилия, секса и экшена.
Столь необычное сочетание стилей и смыслов делает фильмы этого направления некомфортными, но сами режиссеры не воспринимают такой эффект как недостаток. Для них тревожность и растерянность аудитории, наоборот, означает, что они добились поставленной цели. Не потому, что цель состояла в том, чтобы шокировать и эпатировать, а потому, что таким образом они надеются привлечь внимание к темам и проблемам, которые часто замыливаются и игнорируются в мире, перенасыщенном провокационными высказываниями и образами.
Трансгрессивный хоррор в том смысле, в каком он его описывал, режиссер «Мучениц» Паскаль Ложье определил через две характеристики: разрушительный и меланхоличный. Разрушительный — потому что он обманывает ожидания, бросает вызов, провоцирует на неудобный разговор и приковывает взгляд к тому, на что зрителю не хочется смотреть. Меланхоличный — потому что, делая всё это, он не просто шокирует и эпатирует, а еще и сохраняет художественную эстетику, транслирует сильные и искренние эмоции, передает авторскую идею.
«Я знал, что, вываливая на аудиторию такой сгусток темной энергии, следует быть готовым к любой реакции, — сказал Ложье после премьеры „Мучениц“. — Некоторые оскорбляли меня и злились. Другие общались тепло и участливо. „Мученицы“ заставляют людей занимать однозначную позицию, и меня это полностью устраивает. Хоррор не должен быть объединяющим. Он должен разделять, шокировать, подтачивать уверенность зрителей и их склонность к конформизму. Мне нравится парадоксальность, присущая фильмам ужасов: они позволяют взять худшее, что есть в человеческом существовании, и трансформировать это в искусство, в красоту. Эта идея всегда казалась мне очень мощной — вызывать эмоции с помощью самого грустного, самого гнетущего, что только есть на свете».