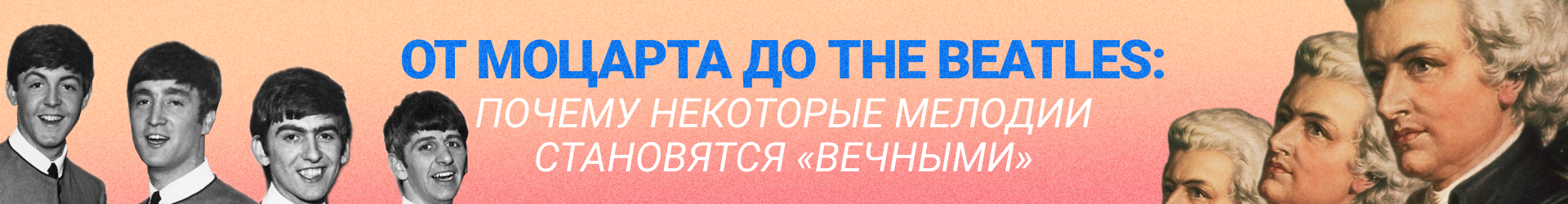Голос друга, соучастие и киберлюбовь. Почему познание неотделимо от социальных процессов
Ребенок двух-трех дней от роду уже умеет опознавать выражения лиц, отличает одушевленное от неодушевленного, а голос матери от других голосов. Это означает, что с самого рождения у человека есть некое зачаточное «Я», настроенное на сосуществование с другими. Насколько глубоко социальность встроена в человеческую жизнь и можем ли мы рассматривать когнитивные процессы отдельно от общественных, культурных и политических? Объясняет философ, сотрудник Центра истории идей и социологии знания ИГИТИ ВШЭ, автор телеграм-канала affordable affordance Максим Мирошниченко.
Востребованный другой в перспективе развития
Первичной средой социализации индивида в психологии развития является диада — малая социальная группа, включающая в себя мать (родителя) и ребенка. Представление о том, что у младенца с первых дней жизни есть ощущение социализированной самости, развил американский психиатр Дэниел Стерн. Опираясь на клинические данные, он показал, что врожденное субъективное переживание социальной жизни лежит в основе когнитивных навыков человека. Стерн не соглашался с распространенной идеей, что на ранних стадиях развития младенец не способен различить себя и других. Он считал, что неразличимость «Я» и другого или, например, переживание эмоционального «слияния» с другим может возникнуть только при уже существующем «ядерном» ощущении себя и сопряженном с ним ощущении другого.
Согласно Стерну, задолго до развития речи у младенца есть некое интегрированное ощущение себя, которое включает в себя чувство единства собственного тела, способность контролировать свои действия и чувство непрерывности времени. Стерн разделял его на четыре «ощущения самости», каждое из которых определяет особую область переживания и социальной соотнесенности. Соотнесенность — это такая модель социальных отношений между ребенком и взрослым, на основе которой формируются ощущение себя и субъективная позиция по отношению к окружению.

Самое раннее измерение личности — это ощущение появляющейся самости (emergent self), которое формируется с рождения до двух месяцев. На этой стадии младенец познает различия между объектами вокруг себя. Познание и эмоции здесь пока неразделимы. Между вторым и шестым месяцами образуется ощущение центральной, или ядерной, самости (core self). К двум месяцам у ребенка накапливается «багаж» переживаний (радости, гнева, интереса, удивления) и для каждой эмоции формируются обратная связь от конкретных моторных сигналов (лица, дыхания и вокального аппарата) и связанные с каждой эмоцией специфические чувства.
Читайте также
7 нот манипуляции: как распознать эмоциональное насилие на работе и научиться ему противостоять
До шести месяцев ребенок учится отличать одушевленное от неодушевленного. Кроме того, у него формируется соотнесенность, которая базируется не только на различии себя и матери, но и на их динамическом отношении, отношении самости-и-другого. Ядерное «Я» — это не только индивид, но и его взаимосвязь с другим. Модель другого формируется интрапсихически как «востребованный другой», как его называет Стерн. Другой входит в структуру самости, он — то, с кем я всё время нахожусь во взаимосвязи. Востребованный другой всегда соприсутствует в индивидуальной жизни ребенка и развивается вместе с ним. Именно на его «место» становится родитель, с которым ребенок формирует диадические отношения.
На самых ранних этапах развития ребенок настолько сильно отождествлен с родителем, что продолжительное отсутствие матери способно сломать защитные механизмы младенца.
Младенец нуждается во взрослом, чтобы тот регулировал его физиологические процессы. Например, он не может регулировать температуру своего тела, потому что не может повлиять на внешние условия. Здесь появляется необходимость в том, кто мог бы позаботиться о его температуре. С точки зрения системной организации тела ребенка внутренний процесс саморегуляции и внешний процесс регуляции с помощью действий взрослого тождественны.
Между седьмым и 15 месяцами у младенца формируется ощущение субъективной самости (subjective self), благодаря которому происходит «настройка» эмоциональной жизни младенца родителем. В исследованиях было показано, что есть зависимость между эмоциональными состояниями ребенка и выражениями лица матери, которые он видит. Улыбка или нахмуренное выражение влияет на то, что переживает младенец. Между седьмым и девятым месяцами ребенок уже может обнаруживать «другие» психики помимо собственной. Чувства, мотивы и намерения окружающих людей вычитываются в видимых физических событиях за пределами ядерной соотнесенности ребенка и матери. Социальные отношения закладываются через то, что младенец понимает: другие обладают внутренними переживаниями, точно так же, как и он, и этими переживаниями можно поделиться (пока невербально). В период с 15 до 18 месяцев формируется ощущение вербальной самости (verbal self). Это ощущение, благодаря своей связи с языком и вербальной коммуникацией, является более когнитивно насыщенным. Ребенок чувствует, что его «Я», как и «Я» других, обладает запасом знаний и опыта, и готов делиться им с другими.
Через такое формирование эмпатии возникает новая область соотнесенности с родителем — интерсубъективная. Интерсубъективность означает соприсутствие других людей в моей жизни. Человек никогда не остается один. А ребенок одинок только в присутствии кого-то другого, как утверждал другой психолог детства Дональд Винникотт. В этом смысле индивидуальный субъект всегда вовлечен во взаимодействия с другими субъектами — его «Я» предполагает наличие «Мы». Теория самостей Стерна показывает, что с ранних лет человек глубоко вовлечен в социальные отношения. Потому неверно считать, что с рождения человек находится в солипсическом одиночестве и лишь через социализацию становится субъектом.
Ты никогда не один: социальное познание от неловких ситуаций до политических институций
Но что случается с востребованным другим, когда «Я» взрослеет? В современной культуре можно встретить много метафор, ассоциирующих соприсутствие другого с доминированием или вторжением, и во всяком случае — с чем-то неприятным. Другой — это паразит, пришелец, нахлебник, нечто чуждое и инородное, тот, кто отнимает у меня желанное и провоцирует фрустрацию. В таких фильмах, как «Видеодром», «Экзистенция» или, например, первом сезоне сериала «Легион», соприсутствующий другой всегда приносит неприятности, отчуждает у меня мое тело и всячески нарушает мои границы.
Но так ли это в действительности? С точки зрения когнитивных подходов в социальной психологии соучастие других в индивидуальной жизни обогащает ее и даже является условием реализации автономного действия. Понятно, что при формировании первичных самостей другой в лице родителя воспитывает и научает основным навыкам познания и действия. Но впоследствии динамика взаимодействий в диаде и более разветвленных социальных структурах сопутствует и зрелому индивиду. Отношения внутри диады «ребенок — родитель» поддерживают физиологию ребенка. Такая зависимость сохраняется и во взрослой жизни: к примеру, метаболизм человека оказывается подчинен культурным нормам — гастрономические привычки, диета, устойчивые представления о нормальном рационе предопределяют то, какими будут физиологические циклы индивида.
Может быть интересно
Культ личных границ: как не превратить защиту своей индивидуальности в травлю других людей
Некоторые когнитивисты говорят о «когнитивном разрыве» (cognitive gap) между простейшими когнитивными операциями и сложными когнитивными способностями. Интересуясь нейрофизиологическими механизмами памяти, внимания, логических операций, когнитивистика не выстраивает связку между ними и социокультурно релевантным поведением человека в коллективе себе подобных.
Потому иногда указывают на «методологический солипсизм» как первородный грех наук о мозге: сводя субъективность к вычисляющему мозгу, наука не может объяснить его социальную вовлеченность.
Потому отдельные психологи выдвигают тезис о том, что социальность первична для когнитивных процессов человека и возникает на микроуровне диады. Они говорят о социальном познании (social cognition), охватывающем спектр действий от понимания физического присутствия других до сложных форм социальной, культурной, политической вовлеченности. Позиции тела, направления взгляда другого человека, его движения отсылают к его внутренним состояниям. Мое понимание другого начинается с распознавания этих состояний, формирования моей соотнесенности и синхронизации с ними. Причем координация, происходящая при социальных взаимодействиях, не требует высокоорганизованных когнитивных навыков, она происходит автоматически, я даже не задумываюсь о ней. Именно такие неосознаваемые навыки исследуются в социальном познании.
Представим себе ситуацию ожидания лифта с несколькими незнакомыми людьми. Я чувствую подступающую скуку и легкое фоновое раздражение, начинаю нервно листать ленту соцсети в смартфоне. Другим тоже явно скучно, мы чувствуем общее томительное ожидание, будто рассеянное в воздухе. Невербально мы подаем друг другу сигналы о том, что мы торопимся и что совместное нахождение в этом месте не способствует знакомству и общению. Наши жесты, движения и другие автоматические реакции взаимно синхронизированы, они воздействуют друг на друга и предопределяют дальнейшее течение этой неловкой микросоциальной ситуации. Если кто-то из нас захочет озвучить вслух свою оценку ситуации, отметив, что лифт задерживается, то интонация и избираемые слова тоже повлияют на траекторию нашего взаимодействия. Как следствие, здесь наблюдаются определенные паттерны взаимной координации, которые по большей части осуществляются без нашего осознанного участия и могут воздействовать на установки индивидов, поддерживая или изменяя их участие. Некоторые из этих паттернов могут поддерживаться долгое время в ходе множества взаимодействий, некоторые исчезают, едва возникнув.

Как считают теоретики социального познания Ханне де Йегер и Эсекьель ди Паоло, такого рода взаимодействия и их усложненные формы обладают собственной динамикой: это регулируемое сопряжение между (как минимум двумя) автономными субъектами, в результате чего возникает определенная автономная организация, не нарушающая автономии индивидов. Ее критериями являются (1) наличие взаимной регуляции между индивидами, (2) неприкосновенность автономии участников. Таким образом, социальность возникает как вовлечение субъекта в определенное ситуативное взаимодействие с другим субъектом. А в результате появляется спектр интерактивных практик от жестовой коммуникации до сложных форм социокультурного производства — например, науки, искусства или политической организации.
Очень важен здесь вопрос автономии индивида. Можно ли считать социальными взаимодействиями, например, приказы начальника подчиненным, абьюзивные отношения, эксплуатацию рабов их «владельцем»? Сторонники этой идеи допускают определенную вариативность автономии:
- Процесс взаимодействия может развиваться помимо контроля участвующих в нем субъектов. Не все действия оказываются подконтрольны участникам, некоторые события и паттерны возникают, закрепляются или исчезают «сами по себе».
- Некоторые действия могут быть осуществлены только во взаимодействии — как, например, акт вручения подарка, который предполагает, что есть тот, кто вручает, и тот, кому вручают, или обучение новому навыку, требующее учителя и ученика, эксперта и новичка.
- Автономия индивида может быть увеличена или снижена в ходе взаимодействия. Обычаи, привычки, усвоенные социальные роли, неравенство/субординация, общепринятые представления предполагают разные степени свободы и возможности изменения. Что-то мы можем изменить, а что-то сопротивляется всякой возможности исправления и трансформируется лишь в течение больших промежутков времени.
- Влияния, оказываемые в ходе взаимодействия, всегда взаимны. От микросоциальных взаимодействий типа телесной и жестовой координации до диалогов, конфликтов или групповой психотерапии действия индивидов находятся в отношениях обратной связи с действиями других, они никогда не случаются в «безвоздушном пространстве» и всегда влияют на то, что сделают или скажут другие.
- Социальность вшита в нас настолько глубоко, что даже когда мы остаемся в одиночестве, мы всё равно не одни и не становимся «несоциальными». Встроенность в общество будет оказывать влияние на мои действия, даже если всё человечество вымрет и я окажусь последним человеком на планете.
- Индивидуальная автономия не может исчезать в ходе взаимодействия: исключаются интеракции, где субъект воспринимается как вещь, средство достижения цели или как проблема, с которой нужно что-то сделать. Именно поэтому отношения между эксплуататором и рабом не могут считаться социальными, ведь в них не признается личностная автономия индивида. Наши будущие отношения с роботами тоже не могут считаться социальными, поскольку пока они не способны к автономному действию.
Но что же такое автономия, которую так важно сохранять? Чуть выше мы узнали, что индивидуальное развитие формирует «островки связности», где «Я» сопрягается с другими в различных плоскостях. Самость основана на подконтрольности собственного тела, различии себя и другого. Сторонники идеи социального познания утверждают, что самость возникает исключительно во взаимодействии с другими. Без других «Я» не возникает: это своего рода промежуточный срез процесса становления собой из взаимоотношений с другими и существует лишь в пространстве «между» (in-between) субъектами. Но при этом индивидуальность этого «Я» раскрывается в умении производить личностный смысл: иметь собственные желания, волю, планировать будущие действия — в общем, проявлять свою свободу.
Когнитивные новообразования, или Почему не нужно знать теорему Пифагора, законы и эстетику
Как соотносить свободу и детерминированность обществом? В советской философии было принято считать, что человек — это ансамбль общественных отношений. Как следствие, никакой солипсической индивидуальности у него нет, самость возникает лишь во взаимодействии с обществом. Философы-феноменологи говорят о смыслополагании (sense-making): я могу наделить смыслом свое существование или какие-то отдельные феномены через свои целесообразные действия. Поэтому индивидуальные или коллективные действия имеют «вшитый» в них смысл, они обладают определенной мотивацией.
В то же время социальный смысл считывается, опознается во взгляде других. Для феноменологии привычно утверждение, что всякое свое действие я воспринимаю глазами другого, как если бы я всегда был наблюдаемым «востребованным другим». Быть в мире — значит слышать голос друга, как писал философ Мартин Хайдеггер. Такую изначальную затронутость позицией другого раскрывает гипотеза соучаствующего смыслополагания (participatory sense-making), выдвинутая де Йегер и ди Паоло. Они считают, что любое осмысленное действие вписано в определенную эмоционально-аффективную динамику, основанную на координации двух субъектов. Социальное взаимодействие возникает, когда действия двух субъектов синхронизированы и имеют общую цель.
Наличие общей цели предполагает различную степень вовлечения каждого участника вплоть до слияния в совместных действиях, когда оба субъекта как бы предугадывают намерения друг друга и достигают взаимной когнитивной прозрачности.
Опять же, здесь идет речь о взаимодействиях, не нарушающих автономии всех участников.
Но как быть с социальностью ребенка и тем, что он изначально вписан в контекст интерсубъективности? Согласно распространенным представлениям о детстве (которые, кстати, всё чаще критикуются как дискриминационные и несправедливые), ребенок лишен автономии. Он недееспособен, незрел, уязвим, нуждается в опеке, обучении и воспитании. Чтобы стать взрослым, он должен включиться в практики инкультурации, стать членом общества. Другими словами, инкультурация, встраивающая индивида в устоявшиеся практики, наделяет его автономией, предоставляя определенные возможности и устанавливая нормативные ограничения его действиям. В то же время такое нормирование позволяет индивиду устанавливать свои ценности, разделять их с другими и распространять их в социальной системе. Именно поэтому иногда говорят о социально расширенном познании (socially extended cognition). Как утверждают сторонники идеи расширенного познания, когнитивные процессы могут быть распределены между мозгом и внешними объектами, облегчая ему вычислительную работу. Так, технологии и артефакты могут служить внешними накопителями информации или интерфейсами, обогащающими репертуар взаимодействий с миром.
Читайте также
Искусство медленного чтения: как научиться понимать больше, а забывать — меньше
По аналогии с этим философ Шон Галлахер утверждает, что многие привычные когнитивные практики не могли бы осуществиться, не будь у нас социальности. Взаимодействия с другими, особенно в контексте различных институциональных процедур и социальных практик, способны породить структуры, поддерживающие и расширяющие наши когнитивные способности. К примеру, интерпретация и применение законов предполагают функционирование судебной системы, где абстрактный свод правил трактуется и применяется к конкретным ситуациям. Судьи, адвокаты и прокуроры совместно реализуют работу закона, распределяя когнитивную нагрузку между собой. Другой пример: чтобы я мог оценить произведение искусства, требуется работа целой инфраструктуры, включающей в себя, помимо художника, работников галереи, кураторов и искусствоведов, которые подготавливают почву для моего контакта с искусством.
А если верить когнитивному психологу Эдвину Хатчинсу, такая сложная задача, как навигация корабля в открытом море, требует распределенных вычислений, которые согласованно проводит весь экипаж. Это означает, что существуют такие сверхиндивидуальные социальные образования, с помощью которых мы достигаем определенных когнитивных процессов, недоступных каждому из нас в одиночку. Без «ментальных институций» (mental institutions) — как иронично называет их Галлахер — многие из привычных нам практик просто не возникли бы. Мы создаем их, разделяя наши когнитивные процессы с другими, или наследуем их как продукты, ранее уже созданные. Например, использование теоремы Пифагора не требует, чтобы мы каждый раз восстанавливали по памяти все шаги в ее доказательстве. Это неявное знание, которое предполагается, но не нуждается в постоянном подтверждении. Если я вдруг забуду что-то из этого, я всегда могу обратиться к экспертам, носителям знания. Значит, другие участники когнитивной деятельности могут держать в уме ту информацию, которую мне не обязательно заучивать наизусть.
Социальность пронизывает индивидуальные когнитивные процессы настолько глубоко, что Галлахер смело заявляет: индивидуальность производна от коллективности или по меньшей мере является итогом усвоения социально-когнитивных процессов.
Стало быть, востребованный другой возник раньше, чем мое «Я». Пример Галлахера — это семья. С точки зрения развития это первая когнитивная институция, где ребенок вовлекается в коллективные практики: освоение языка, правил поведения с другими, понимание собственных границ. Семья и отношения с родителями формируют первичную среду социализации, где рождаются ощущения самости в ее отличии от окружения. Но понятно, что здесь же формируются предпосылки совместного смыслополагания, когда ребенок начинает понимать, как возникают новые области социального смысла, недоступные индивидам по отдельности.

Познание, любовь и агрессия в жизни «человека любящего»
Так ли безобидна эта неизбежная социальность? Была ли она присуща человечеству всегда или когда-то возникла и закрепилась? И можно ли как-то выйти из-под ее влияния? Если верить некоторым единомышленникам Шона Галлахера, социальное познание может как развивать индивида, так и ограничивать его, вмещая в узкие нормативные рамки. Увязывать вместе нередукционистскую науку о познании, психологию и социальную критику пытается направление, получившее название критической нейронауки (critical neuroscience). Его представители опираются на идею социального познания и с ее помощью пытаются вскрыть проблемные места современного общества.
К примеру, философы Мишель Майезе и Роберт Ханна пытаются совместить когнитивистский и марксистский подходы к социальности, чтобы показать: когнитивные институции далеко не всегда расширяют наши способности. Часто они, наоборот, деформируют душевную жизнь индивида, навешивая на него когнитивные оковы. Они выделяют два типа социальных институций. Первый тип, развивающий (enabling), построен на чуткости к запросам и потребностям людей. Он направлен на то, чтобы совместными усилиями и кооперацией достичь сверхиндивидуальных целей, поспособствовав самоактуализации каждого человека.
В идеале образование должно стать такой институцией: развивая и обучая каждого, оно помогает найти свое место в обществе и раскрыть собственный потенциал. В действительности оно работает как второй тип институций — деструктивный (deforming). Ведь мы знаем, что часто образовательный процесс направлен на удовлетворение формальных запросов и однобокого рейтингования, что часто никак не способствует глубокому и всестороннему освоению знаний и навыков.
Деструктивные институции глухи к запросам и потребностям людей, а главное, они не признают автономию и достоинство каждого индивида. Они манипулируют зависимостью людей от себя, используя ее для самовоспроизводства и последующего укоренения себя и своих норм в умах людей. Так мы получаем атомизированное общество, где каждый настроен против других, нет доверия и кооперации. Потому и изменить что-либо в такой ситуации становится если не невозможно, то крайне трудно: когда у тебя недостает когнитивных ресурсов для выражения протеста и желания перемен, институция не дает тебе даже возможности как-то артикулировать проблемность положения вещей. Нетрудно увидеть здесь пересказ на когнитивистский манер идеи «ложного сознания» в марксистской социально-критической теории. Ханна и Майезе цитируют ее классиков — Эриха Фромма и Герберта Маркузе, чтобы показать, что неолиберальный уклад проник даже в нейрофизиологию, усугубив эксплуатацию и несправедливость.
Насколько неизбежно такое положение социального познания? Если верить эволюционно ориентированным исследователям, оно когда-то возникло и закрепилось, и это значит, что оно не присуще человеческой природе. В животном царстве распространены различные формы социальности: забота о потомстве и уход за больными и умирающими «соплеменниками», чувство групповой солидарности, эмоциональное заражение (emotional contagion) и эмпатия.
Эволюционным предшественником этого многообразия, по некоторым версиям, является забота о потомстве. Она предполагает эмоционально-аффективную вовлеченность обоих субъектов, их поглощенность друг другом. Как утверждает биолог и философ Умберто Матурана, в ходе эволюции получилось так, что мы перенесли черты, присущие отношениям ребенка и родителя, во взрослую жизнь.
Сохранение во взрослом состоянии черт, свойственных молодым особям, называют неотенией — своего рода задержкой в развитии.
В этом смысле мы никогда не взрослеем и всегда ищем любви и принятия. Любовь, по Матуране, — это сценарий взаимодействия, основанный на заботе и открытости, и в этом он противоположен агрессии, где другой отрицается. Он выстраивает кибернетическую модель социальности, в которой любовь и агрессия работают как инварианты взаимодействий между индивидами. Эти инварианты диктуют траекторию развития социальной системы. Матурана считает, что именно здесь лежат начала социальности: любовь — это свобода и сотрудничество (collaboration), участие в общем действии на добровольной основе.
В начале истории человечества это привело к появлению совместной жизни (cooperative living together), построенной на взаимной эмоциональной вовлеченности. Лишь впоследствии это состояние преобразовалось в стремление к доминированию и подчинению, агрессии, первенству деструктивных социальных институций. Изначально человек не только разумное, но и любящее существо, homo sapiens-amans. Это значит, что социальное, эмоциональное и когнитивное в человеческой жизни всегда прочно сопряжены и что традиционное видение человеческого интеллекта нужно дополнить динамикой социальной жизни.