Грэм Харман: «Мы живем внутри метафизики»
Метафизик Грэм Харман из Американского университета в Каире — создатель так называемой объектно-ориентированной философии (не путать с объектно-ориентированным программированием!). Харман вместе с Квентином Мейясу, Рэем Брасье и Иэном Хамильтоном Грантом образуют могучий квартет спекулятивных реалистов. На русский переведны лишь несколько его статей, 15 февраля в рамках Зимней философской школы в Перми философ презентует перевод одного из своих основных трудов «Четвероякий объект». Свою философию он называет «неотвратимым мутантом, отпрыском гуссерлевских интенциональных и хайдеггеровских реальных объектов». Станислав Наранович поговорил с Харманом о необходимости метафизики в современном мире, мертвой материи, протухшем Делезе и стоиках из Гуанчжоу.

— Начнем с азов, если вы не против. Почему метафизика? Почему не что-нибудь вроде социальной философии? Иными словами, почему в XXI до сих пор есть нужда в том, чтобы философы учили о строении бытия?
— Потому что мы всегда живем внутри метафизики, осознаем мы это или нет. Если мы говорим, что избегаем метафизику, на самом деле мы лишь соглашаемся на случайный метафизический бэкграунд, доставшийся нам от предыдущих поколений. Думаю, гораздо лучше взять быка за рога и поставить метафизические вопросы опять.
Мы живем в мире, где естественные науки заменили религию в качестве de facto последней инстанции для почти всего на свете. Это неплохо, но науки лучше справляются с ситуациями, в которые не вовлечены люди. Кроме того, у них есть тенденция объяснить вещи в терминах их окончательного строения — на мой взгляд, это несовершенный подход. Науки также принимают как должное матералистическую концепцию реальности, а я показывал в одной из своих работ, что материализм — это форма реляционизма, не очень хорошей метафизики. Если мы, напротив, начинаем с социальной философии, как вы предложили, то сталкиваемся с обратной проблемой, заключая все во Вселенной в термины эффектов на общество, а не термины естественного строения. Мы просто смещаемся от природы к культуре. Думаю, Бруно Латур в работе «Нового Времени не было» дал решающее опровержение этого типично нововременного разрыва.
Вообще, редко встречаются эпохи с большей потребностью в метафизике, чем наша. Сегодня мы пожинаем последние плоды современной философии и чертовски нуждаемся в альтернативе.
— Чему противостоит ваша онтология? С кем сегодня сражаются объектно-ориентированные онтологи?
— ООО противостоит любой попытке превратить философию в форму знания. Сократ никогда не претендовал на знание, но только на практикование philosophia, на любовьк мудрости, а не на саму мудрость.
У нас есть два базовых способа утверждать, что мы что-нибудь знаем: либо (а) мы объясняем, из чего что-то сделано, либо (б) объясняем, что оно делает. Но объект никогда не сводится ни к своему строению, ни к своим эффектам. Объект — никогда не объект знания, он противится любому прямому знанию. В этом смысле ООО остается верной наследию Сократа.
Объект не полностью зависит от крошечных частиц, из которых собран, поскольку мы можем удалять или заменять эти частицы — и в определенных пределах объект все равно останется тем же самым объектом. Объект также не резиновое имя для всей суммы своих действий — он может быть способен на другие эффекты в будущем. Это показывает, что объект всегда избыточен по отношению к тому, что он делает в данный момент под нашим наблюдением.
Словом, объект больше своих частей, но меньше своих эффектов. А раз знание — это всегда знание первого или второго, объект никогда не доступен знанию напрямую. Враги ООО, о которых вы спрашиваете, это все те, кто пытается редуцировать объект либо к крошечным физическим частицам, либо прагматическим эффектам.
— Вы ведете блог, спекулятивные реалисты выпускают онлайн-журнал Speculations. Говорят, главный российский философ Валерий Подорога как-то сказал, что спекреалисты — это всего лишь секта блогеров и горстка академических неудачников. В каких отношениях спекулятивный реализм и Интернет?
— Кажется, Подорога дезинформирован об академических заслугах ведущих спекулятивных реалистов.
Что касается Speculations, там опубликовано несколько неплохих статей, но у меня нет никаких связей с этим журналом. Его издают более молодые люди, заинтересовавшиеся спекулятивным реализмом.
— В чем антагонизм между объектно-ориентированной онтологией и спекулятивным материализмом? Останется ли в будущем что-нибудь, помимо этих двух течений?
— Главный антагонизм связан с отношением к Канту. Для спекулятивного материализма (позиции Квентина Мейясу) все идеи Канта гениальны, кроме его теории непознаваемых вещей-в-себе. Мейясу считает, что они познаваемы математическими средствами.
Для ООО, наоборот, Кант был гением именно из-за непознаваемых вещей-в-себе. Он ошибался в том, что считал, что Ding an sich преследует только людей. На самом деле неодушевленые вещи тоже являются вещами-в-себе друг для друга. Находящиеся в причинных отношениях вещи переводят друг друга в карикатуры просто посредством взаимодействия. На это обречена не одна лишь человеческая мысль.
Насчет того, останутся ли от спекулятивного реализма только объектно-ориентированная онтология и спекулятивный материализм, — всегда сложно предсказывать будущее. Однако я невысокого мнения об «акселерационистском» крыле спекулятивных реалистов. Этим людям свойственно писать плохо и не очень часто. Да и сам акселерационизм кажется мне просто олдскульной левизной с играющей на фоне стимпанковой музыкой.
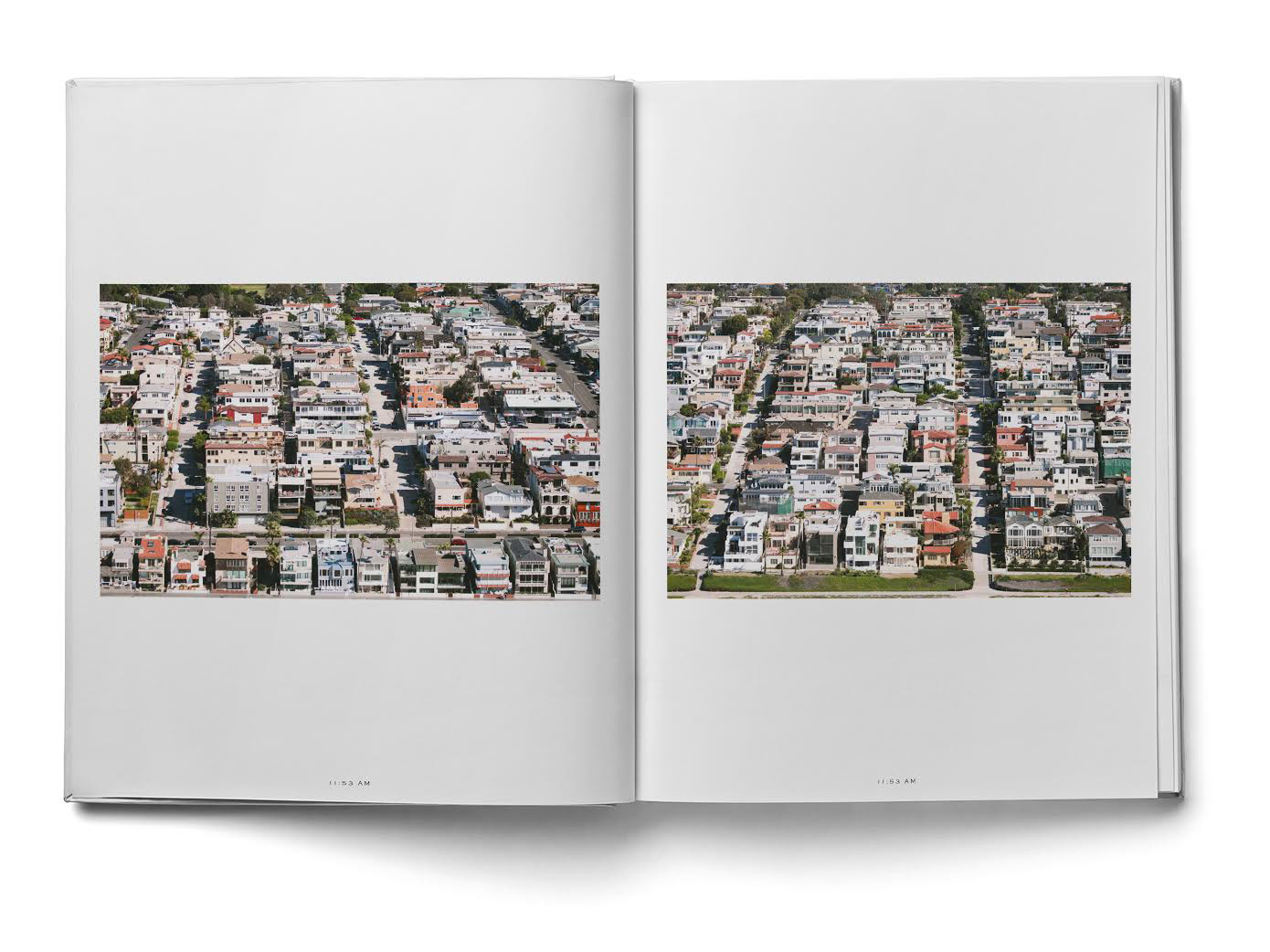
— Почему нам критически необходимо преодолеть корреляционизм?
— Для читателей, незнакомых с понятием: корреляционизм — это довольно удачный термин Мейясу для философий, утверждающих, что мы не можем говорить о людях без мира и о мире без людей, но только о мире и людях одновременно в их взаимной принадлежности.
На мой взгляд, корреляционизм — это просто более узкая версия реляционизма, обнаруживающегося, например, в философиях Альфреда Норта Уайтхеда и Бруно Латура. Эти философии решительно против любого понятия вещей, которые существуют сами по себе, вне отношений с другими вещами. Как формулирует это Латур в книге «Надежда Пандоры», сущности являются только тем, что они «трансформируют, модифицируют, нарушают или создают».
Проблема с определением вещей исключительно в терминах их отношений в том, что вещи постоянно, из минуты в минуту, обнаруживают себя в новых отношениях. Но из этого следует, что вещь всегда больше ее текущего набора отношений. Объект всегда избыточен, ни в одной ситуации не выражен полностью. Отрицая это, Уайтхед и Латур, в сущности, утверждают, что объект в момент времени T1 и тот же объект в момент времени T2 через пару секунд — это разные объекты. Объект в момент Т2 просто имеет близкое семейное сходство с объектом в момент Т1. Это совершенно необоснованно. Нет никаких причин полагать, что объект стал другим объектом только потому, что его отношения уже не такие, как несколько секунд назад.
Но, по крайней мере, у реляционизма смелая космология, размещающая все отношения между объектами на той же плоскости, что между объектами и людьми. Корреляционизм, к сожалению, теряет это основное преимущество реляционизма, настаивая, что любое отношение обязательно включает в себя людей как одну из сторон. Это абсурд. Если посмотреть на сделанные телескопами изображения, можно понять, насколько необъятна Вселенная, в большей части которой, видимо, нет вообще ничего похожего на человечество.
Коротко говоря, корреляционизм не только сохраняет неспособность реляционизма объяснить избыточность вещей, благодаря которой они меняются. Он также делает философию провинциальной, настаивая на личном присутствии человека-свидетеля где бы то ни было.
— Чем плох наивный реализм? Грубо говоря, что скверного произойдет, если идеалисты пропадут и все поголовно станут наивными реалистами?
— Под «наивным реализмом» мы с вами, кажется, имеем в виду одно и то же: взгляд, согласно которому есть мир вне сознания (реализм) и что мы можем знать этот мир (наивный). Проблема этой позиции в допущении, что у нас может быть прямой доступ к истине, покуда мы соблюдаем адекватные эпистемологические и научные процедуры.
Но это противоречит самому смыслу философии как philosophia. За возможным исключением математики, кто вправду состоит в прямых отношениях с истиной? После Ньютона все на протяжении веков считали, что у них есть прямой доступ к истине о гравитации, но Эйнштейн показал, что это не так.
Проблема наивного реализма в том, что он не может объяснить разницу между знанием и тем, что он знает. Почему идеальная математическая модель лошади — это не сама лошадь? Довольно разочаровывающий ответ Мейясу, который он дал на лекции «Итерация, реитерация, повторение» в Берлине в 2012 году, заключается в том, что математическая модель — это только форма, тогда как реальная лошадь — это та же самая форма, отчеканенная в чем-то под названием «мертвая материя». Но это отбрасывает Мейясу обратно в метафизику, похожую на метафизику Фомы Аквинского. Мой ответ, напротив, в том, что форма лошади в математической модели — это всего лишь перевод формы лошади, обнаруженной в лошади из плоти и крови. Это ставит меня ближе к позиции Франсиско Суареса, противостоявшего Аквинату. А Суарес, в свою очередь, через влияние на Лейбница гораздо ближе к сердцу современной философии.

— Разве мы не можем утвердить истинность реальности в-себе исходя из собственной физиологии? Аргумент в духе Конрада Лоренца: плавники рыбы отражают гидродинамические свойства воды, которыми вода обладает независимо от того, загребают ли ее плавники. Точно так же, наш познавательный аппарат — предмет реальной действительности, произошедший благодаря контактам со столь же реальными предметами, которые могут проследить эволюционисты и генетики. Наше восприятие является подлинным образом действительности, но утилитарным: у нас развились органы лишь для тех сторон в-себе, какие нужны для сохранения вида. А учитывая разнообразие биологической жизни, мы должны допустить, что в-себе имеет множество других сторон, не имеющих жизненного значения для нас и для органики в целом.
— Я согласен со всем, что вы только что сказали, но я не люблю современную тенденцию подменять философские вопросы правдоподобными историями, выведенными из теории эволюции. Хардкорные эволюционные теоретики имеют склонность объяснять все даже не столько эволюцией вообще, сколько естественным отбором. Это ведет, среди прочего, к достаточно идиотским попыткам литературной критики — «Илиада» о сильных воинах, убивающих слабых, а романы Джейн Остин о молодых и красивых женщинах, выбирающих в супруги богатых мужчин постарше. Давайте сопротивляться такому роботизированному методу для решения почти любой интеллектуальной проблемы.
— Жан-Мари Шеффер в «Конце человеческой исключительности» бросает вызов антропоцентризму; онтическому сегрегационизму, полагающему два класса сущих — человека и мир; дуализму, помещающему человека в res cogitans; физикалистскому редукционизму, остающемуся лишь зеркалом дуализма, переносящим человека в res extensa. Все это и враги спекулятивного реализма. Шеффер предлагает нередукционистскую натуралистическую антропологию, которая видит в человеке «временную, неустойчивую генеалогическую кристаллизацию эволюционирующей формы жизни». Не является ли такой биологический натурализм, несмотря на фатальное отличие исходных пунктов (антропология/онтология), серьезным конкурентом OOO?
— Звучит чересчур совместимым с ООО, чтобы быть серьезным конкурентом. Рассматривать людей как «временную, неустойчивую генеалогическую кристаллизацию эволюционирующей формы жизни» — прекрасная идея, я тоже согласен с ней.
Однако я не вижу, как историко-антропологический подход может заменить теорию объектов ООО. Натурализм может сколько угодно называть себя нередукционистским, но он всегда должен давать привилегию природе как фундаменту чего угодно. Даже если некоторые объекты абсолютно ненатуральны или искусственны, натурализм все равно должен рассматривать их так же, как ДНК, шимпанзе или лесные ягоды. В конечном счете, ООО исследует существующие между объектами и их качествами трещины, о которых ничего не может сказать ни одна форма натурализма.

— Как вы относитесь к Делезу? Не смейтесь, но некоторые пассажи из вашей работы «О замещающей причинности» — «две сущности влияют одна на другую только при встрече внутри чего-то третьего, где они существуют бок о бок, пока не произойдет что-то, что позволит им взаимодействовать»; реальные объекты, всплывающие из темных глубин к феноменальной поверхности — напомнили мне о темном предвестнике Делеза, под действием которого вещи рождаются из различия: «Прежде всего — каков этот агент, эта сила, осуществляющие коммуникацию? Молния сверкает при различии напряжения, ему предшествует невидимый, неощутимый темный предшественник, предопределяющий дорогу, идущую вспять, никуда». Вы точно не латентный делезианец?
— Что меня всегда пленяло в Делезе, так это его восхитительно непочтительный тон. Я начал изучать его на первом курсе магистратуры осенью 1990 года в университете штата Пенсильвания. У нас преподавал Альфонсо Лингис, мы читали «Анти-Эдипа». Моим бэкграундом был Хайдеггер и никогда еще я не читал ничего настолько забавного, как Делез. Уже никто не помнит, но в 1990 году Делез был довольно второстепенной фигурой — мы читали его одновременно с Жаном Бодрийяром и оба казались фигурами примерно одного масштаба. Единственными действительно популярными мыслителями были Деррида и Фуко, но я никогда не считал их увлекательными, в отличие от Делеза.
Сегодня, в 2015 году, Делез, боюсь, уже не бодрящий аутсайдер. Его философия стала полноправной идеологией, что происходит с каждым мыслителем, обретающим популярность. Что, как мне кажется, с Делезом не так? Во-первых, он слишком враждебен к понятию реальных индивидов. Становление и различие всегда первостепенны для него, даже в том красивом пассаже о темном предвестнике, который вы только что процитировали. С точки зрения Делеза, индивиды всегда наделены каким-то стерильным эффектом поверхности. Во-вторых, думаю, делезианская «альтернативная» история философии исчерпала себя.
Как только кто-то подхватывает вирус Делеза, он моментально начинает фокусироваться на фигурах «меньшинства» в истории философии: Лукреции, Спинозе, Бергсоне, Ницше. Ему начинают нравиться картины Фрэнсиса Бэкона. Некогда это было свежо, но теперь несколько устарело. Настало время вернуться к «мажоритариям» философии — не зря они являются великими столпами нашей дисциплины: Платону, Аристотелю, Декарту, Канту, Гегелю, Гуссерлю, Хайдеггеру и другим философам, которых Делез преимущественно игнорировал. Я, конечно, в курсе его книги о Канте.
Хотя Париж был столицей европейской философии со времен Второй мировой, и вполне заслуженно, главные фигуры этого периода, к которым можно причислить Делеза и Бадью, не кажутся мне столь же основательными, как Гуссерль и Хайдеггер — последние действительно великие немецкие философы.
— Наверное, самый волнующий вопрос: какая политика должна (если должна) сопутствовать объектно-ориентированной философии? Вы уважаете Латура, тогда как последователи Бурдье, например, социолог Луи Пэнто, обвиняют его в мнимой «революции понятий» и аполитичности.
— Я только что закончил книгу о политической теории Латура. Это была, наверное, самая тяжелая работа, за которую я принимался, учитывая, что политические взгляды Латура неочевидны. Но, думаю, в конце концов я расшифровал его код.
После Великой французской революции западная политика одержима различием между левыми и правыми. В конечном счете, разница сводится к несогласию относительно того, какими люди были в так называемом естественном состоянии, предшествующем какой-либо цивилизации и публичным институтам. Были люди по природе равными в естественном состоянии и оказались неравными только из-за порочности пост-аграрной цивилизации? Если так, тогда любой вид неравенства — это преступление против морали и истины. В этом случае у нас есть Руссо и все вытекающие руссоизмы левых. Или же в естественом состоянии мы были бандой истекающих слюной зверей, готовых убивать, грабить и насиловать друг друга, так что какое угодно правительство лучше, чем никакого? Здесь у нас есть Макиавелли, Гоббс, Шмитт, Штраус и другие правые политические мыслители, так вцепившиеся в порядок, будто это что-то по природе своей хрупкое. Проблема с Латуром в том, что его никто не смог убедительно разместить где-либо на политическим спектре, кроме тех левых, которые видят опасного реакционера в любом не левом.
Строго говоря, Латур не принадлежит ни одному месту на спектре, так как его политические взгляды совершенно не зависят от теории человеческой природы. Латура заботит другой нововременной дуализм, охватывающий и левых, и правых — дуализм истины и власти. Является ли политика проклятой областью, где политическая истина никогда не воплощается — либо из-за пресловутых корыстных интересов класса капиталистов, либо из-за глупой доверчивости масс? Отвечающий «да» является сторонником Политики Истины, поскольку уверен, что политическая истина уже известна, но еще просто не реализована. Или, наоборот, политика — это битва за власть, а победитель получает все, раз Бог мертв и нет никакой власти за пределами самой борьбы за власть? Отвечающий «да» на этот вопрос оказывается сторонником Политики Власти, в которой победитель всегда прав. Хотя в реальном мире большинство придерживается разных сочетаний этих двух позиций, дуализм истины/власти остается подлинным двигателем современной политической теории.
Соответственно, ранний Латур в большей степени представитель Политики Власти. Он обожает Гоббса, который не допускает религиозных или научных аппеляций к истине за пределами государства. Это не значит, что ранний Латур за диктатуру — выражаясь философски, он просто полагает, что нет никакой реальности, трансцендентной противоборствующим акторам, образующим сети. Но в 1991 году, в «Нового времени не было», Латур делает поворот на 180 градусов и говорит: «Нет, Гоббс был не прав». После, в «Политике природы», он поручает ученым и моралистам работу по поиску реальных трансцендентных сущностей, до тех пор исключенных из политики. А еще через несколько лет он поддерживает критику Джона Дьюи в отношении Уолтера Липмана. По Дьюи, разные политические проблемы вызывают к жизни разные же сообщества, сталкивающиеся с этими проблемами как загадками, никогда не разрешаемыми до конца.
Отрицая и Политику Власти, и Политику Истины, Латур преподает нам важный урок, что политика — это не форма знания. Именно это упускает Пэнто в своей критике. Последователи Бурдье думают, что полностью вычислили социо-политическую сферу, поэтому им так легко требовать, чтобы каждый присоединился к ним в наведении порядка. Но что если современная левая политика понятия не имеет, что делает, и работает на последнем издыхании той эпохи, когда были рождены сами левые взгляды? Судя по всему, Латур считает это проблемой — как и я.

— Как спекулятивные реалисты относятся к религии?
— Лично я не разделяю враждебность к религии, выставляемую на показ многими интеллектуалами. Естественно, я терпеть не могу религиозные догмы — настолько же, насколько догмы предполагаемого политического знания, но не больше. Однако в лучшем своем виде религия держит нас открытыми для вещей, которых мы еще не знаем. Конечно, есть полно религиозных фанатиков и лицемеров — но фанатики и лицемеры в огромных количествах водятся и вне религии.
— Последнее время появляется нон-фикшн и мероприятия вроде Stoic Week,популяризующие философию как образ жизни, ежедневную практику, epimeleia heautou, а не blue sky science. Как вы относитесь к такой философии, понятной в первую очередь как античные духовные упражнения, как их назвал Пьер Адо?
— Я всецело за нее. Уже давно задаюсь вопросом, могут ли быть «Духовные упражнения» Лойолы подходящей моделью для нас сегодня — знаете, «Метафизические упражнения» или что-нибудь в этом духе. Несомненно, одна из традиционных слабостей современной западной философии — это ее относительно завышенная оценка теоретической части. Быть может, в будущем мы увидим перемены. Как эллинистический мир был полон киников, скептиков и стоиков, так и во второй половине XXI века, возможно, появятся странствующие по свету мудрые люди, собирающиеся вместе в Сан-Паулу, Бангалоре, Гуанчжоу и Дубае.
