Боги, молнии и тайная Германия Мартина Хайдеггера
Был ли Хайдеггер нацистом? Дискуссия об этом продолжается несколько десятилетий. Поэт и антрополог Нестор Пилявский считает, что ответ на этот вопрос прост и сложен одновременно: и членство в НСДАП, и отход от гитлеризма — закономерные следствия его философии. Принципы консервативной революции были близки мыслителю, но практика нацистских преступлений была частью того же делячества, против которого Хайдеггер восставал всю жизнь. «Нож» продолжает цикл текстов о Хайдеггере и разбирается, как князь философов продолжал эллинскую традицию мысли, что заставило его обратиться к психоанализу и зачем ему понадобились молнии, небо и бессмертные боги.
Куда уходят боги
Как-то Хайдеггер, рассуждая с Ойгеном Финком о древнегреческой философии, вспомнил: «...когда я был на Эгине. Неожиданно блеснула молния — но только одна. „Зевс“, — подумал я». Едва ли это можно считать просто «образом»: боги занимают важнейшее место в философии Хайдеггера. Они мало похожи на христианский теос, они не правят бытием и не возвышаются над ним, а скорее представляют взгляд бытия на самое себя.
Читайте также
«Многознание уму не научает». Как перестать собирать факты и начать мыслить
Решительное экзистирование Мартина Хайдеггера: как перестать беспокоиться и начать умирать?
Подобно языческим богам греков и германцев, хайдеггеровские философские боги подчинены судьбе, посылу бытия в той же степени, что и люди. И на богов, и на людей оказывает влияние техника — судьбоносное начало, способность раскрывать непотаенность мира при помощи изъятия и выведения действительности из этой непотаенности, то есть при помощи постава (Gestell). Сведение действительного до наличного, лежащее в основе развития философии и цивилизации, прямо связано с извечным стремлением людей загородиться от смерти, с одной стороны, и с уходом богов, с другой. Но что отличает богов от людей и зачем они в философии, которая занята экзистенцией?
Дело не ограничивается тем, что боги обретаются в опыте мышления и следуют сквозь прозревающий человеческий дух со времен зарождения философии. Не менее важна онтология божественного и человеческого, двух начал, разделенных смертью — точкой отсчета экзистенциальной мысли.
Смерть, одновременно известная и неотвратимая, но неописуемая и отталкиваемая человеком, у Хайдеггера является феноменом, через соотнесение с которым человеческое существование только и может становиться подлинно человеческим и подлинно погруженным в бытие — через его присутствие или вот-бытие, дазайн (Dasein). Потому-то учение о бессмертных богах и смертных людях так важно. Вот как это описывает Финк в диалогах с Хайдеггером, посвященных философии Гераклита:
«...под „бессмертными“ мы понимаем тех, кто знает о своем непрестанном бытии только благодаря людям, исчезающим во времени, а под „смертными“ — людей, которые знают о своей бренности только потому, что имеют отношение к „бессмертным“, пребывающим всегда и сознающим свое вечное бытие».
Божественность-бессмертность, составляя опыт человека по осознаванию смертности-человечности, обустраивает иерархию сущего в его соотнесенности с бытием. Боги выполняют роль стражей бытийного порядка, они указывают на самораскрытие истины мира.
«Люди умирают жизнью богов», — продолжает Хайдеггер Гераклита, показывая, что для аутентичного экзистирования, подлинного прожития человеку необходимо нацеливаться на свою смертность, а если от нее отворачиваться, тогда от человека отвернется и богатство жизни, а с жизнью отворачиваются и боги, бессмертие которых соотносится с жизнью смертного.
Отворачиваясь от смерти или изгоняя богов, погружаясь в мир товаров-муляжей, человек выпадает из экзистенциальной самости и предает бытие забвению.
Этой тенденции противостоят поэты, которые идут по следам богов. Они говорят на языке, свободном или почти свободном от постава.
Хайдеггер невероятно внимательно относится к философско-поэтическому утверждению Гераклита «Сущим в его целом правит молния». Он поясняет: огонь молнии обозревает, озаряет и пронизывает сущее. Сверкнула молния — и человек видит «проступившее целое в его напряженной структурной слаженности, в которой переплетаются соединение и разделение». Молниеносный свет обнаруживает темноту, а равно и освещенность. Через это приходит мера, восходит космос-порядок, утверждается иерархия, в которой бытие проступает через сущее. Эту иерархию утверждает Зевс, обустраивающий мир.
Может быть интересно
«Смерть умных душ стать влажными»: чему учил Гераклит, самый загадочный философ Античности
В античные времена логос молнии осветил мир и изумил древних философов, составивших первое начало мышления. Хайдеггер описывает фундаментальные экзистенциалы, такие как находимость, понимание и речь, и анализирует, каким образом эти экзистенциалы обнаруживали себя уже в дофилософскую эпоху. Тогда они как бы высвечивались молниеносным логосом, они только-только начинали прокладывать дорогу от мифа к философии и истории через открытость.
Хайдеггер вовсе не призывает вернуться в эту старинную открытость и осесть в ней. Философ пишет о том, что пережить логос молнии нужно по-новому и, уже имея верно истолкованный путь ошибочного вопрошания о бытии через сущее, идти другим путем — совершенно альтернативным тому, которым шли мысль и общество начиная с Анаксимандра.
Образ внутренней молнии можно найти и у Ницше, у которого всяким настоящим философом правит рок, заставляющий «снова и снова переживать необыкновенные вещи», а мысли задевают и потрясают этого философа — как «своего рода события и удары молнии».

Хайдеггер с презрением относился к костенеющим во взгляде назад «народникам» и популярному в кругах немецких консерваторов «народничеству» (völkische), высмеивал многочисленные неорелигиозно-политические движения, «выдуманное язычество» и «поклонение Вагнеру». Все эти консервативные платформы, по его мнению, совершенно наивны и происходят из того же самого корня, что и, казалось бы, на первый взгляд оппозиционные им «идолопоклонство перед техникой» или новые христианские доктрины, будь то прогитлеровские «немецкие христиане» или антифашистский «исповеднический фронт». Что бы сказал Хайдеггер сегодняшним хайдеггерианцам среди православных евразийцев, разного рода неоязычников или ариософов?
«Потеряв богов, мы утратили мир; мир нужно сначала создать, чтобы в этой работе обеспечить пространство богам; но это открытие мира не может исходить от имеющегося человека, как не может производиться им, — а лишь таким путем, чтобы то, что в принципе основывает и обустраивает открытие мира, — само достигалось для Da-sein и возвращения в него человека».
М. Хайдеггер. Размышления II-IV (Черные тетради 1931–1938)
В то же время не приходится сомневаться в консервативной позиции философа. Он описывает саму сущность человеческой истории как постепенное забвение бытия, всё время обращается к истоку этого процесса в Элладе, порицает расчеловечивающую сторону так называемого технического прогресса и опустошающее свойство делячества (Machenschaft), которое характеризует не только и не столько способ капиталистического производства, сколько позицию человека по отношению к бытию.
Казалось бы, консерватизм Хайдеггера, взывающего к теням немецкого леса и зевсовым облакам, совершенно прозрачен и очевиден. Однако при его анализе зачастую упускают важную вещь — философию времени, которое у Хайдеггера в своей онтологической и антропологической значимости приближается к бытию (да и вообще мыслится неразрывно с таковым).
В мысли Хайдеггера можно обнаружить сущностный приоритет потенциального над актуальным и будущего над прошлым или настоящим. Хайдеггеровское мыслящее существо обращено скорее к будущему, чем к прошлому, поскольку именно в будущем находится смерть человека. Никто из нас не мертв в прошлом, но все умрут в будущем, и, зная об этом, через это мы утверждаем свое отношение к бытию, если не отворачиваемся от смерти, а уже исходя из такового отношения вольны строить свой жизненный проект.
Смерть, этот водораздел между богами и людьми, касается не только некоего исторического опыта, когда боги пребывали с людьми, а затем стали уходить от них, но будущего. Тогда — не в будущем ли нужно искать следы богов или присутствие новой божественности?
Фундаментальная онтология Хайдеггера и вышедшие из нее экзистенциальные учения обращены к будущему, к его содержательной, живородящей «пустоте», порождающей происходящее. Будущее дается человеку как могущество-сбыться, и в этой возможности бытия содержится «может-быть» любой метафоры или превращения (а значит, корень знаковых систем, языка).
Будущее утверждает себя как возможность-бытия-быть, оно чревато превращениями и утверждением новой меры. Из будущего и экзистенциального наброска (заботы) человека родится бытие-вперед-себя (экзистенциальность), обнаруживающее мировость мира. Возможно, отсюда предчувствие Хайдеггера о «последнем боге», которому еще предстоит появиться и... пройти мимо людей.
Время, не ограниченное темпоральностью, которое не временно, и бытие, которое не есть ничто из сущего, сходятся в точке, где непотаенно обитает бытийная самость человека и где бессмертные, говоря словами Гераклита, «бессмертны смертностью смертных». Как можно приблизиться к этому пункту? Через экзистенциал решительности (Entschlossenheit).
(Un)Heil Hitler: Хайдеггер и национал-социализм
Несомненно, именно забота о бытии и решительная настроенность на будущее, а не тоска по прошлому заставили Хайдеггера в начале 1930-х отойти от Региональной партии виноградарей, за которую он ранее голосовал, и присоединиться к национал-социалистам, которые выступали за ликвидацию прогнившей Веймарской республики и обещали дать народу не только новую знать, но и новые смыслы.
Пьер Бурдье прав, когда говорит о том, что политическое и философское в Хайдеггере неразлучно и разделять эти начала, защищая либо обвиняя Хайдеггера, нельзя. Однако делать из этой предпосылки однозначные, скороспелые выводы тоже не стоит.
Едва ли Бурдье, одному из главных обличителей «хайдеггеровского нацизма», удалось понять ту экзистенциальную глубину, которую имеет в фундаментальной онтологии троякая связь смерти, бытия и будущего (времени вообще). Он легко ставит Хайдеггера в один ряд с неоромантиками (и/или нацистами), которым присуща «очарованность смертью».
Экзистенциальные структуры видятся Бурдье наряженным в философию спекулятивным почвенничеством. Но для Хайдеггера и следующих за ним экзистенциалистов это — коренным образом человеческое, общее, действительное. С такой точки зрения Бурдье, говоря экзистенциально, иллюстрирует собой только частный случай деятельности анонимного человеческого начала (das Man), которое пугается свободного, отчаянного и решительного вызова экзистенциальным границам, предпочитая ему «боязливые хлопоты» и постепенное утопание в захватывающей, анонимизирующей повседневности.
«Рациональное размышление и диалектическое снятие», которые Бурдье противопоставляет хайдеггеровской решимости, на деле всего лишь отнимающая экзистенциальную человеческую свободу философская болтовня (Gerede), которая, раздувая и нагромождая рациональность, стремится затмить само подлинное дело знания.
Ни рациональное, ни иррациональное, ни старая философия, ни религия, ни бурно развивающаяся наука не способны ухватить знание в его бытийной основе, утверждает Хайдеггер. Все они говорят о сущем и не говорят о есть этого сущего, молчат о бытии, а если и говорят о бытии, то видят его как сущее.

Почти никто не считает Хайдеггера «одним из идеологов нацизма», но его называют «попутчиком» гитлеровского режима. Дело в том, что философу, ставшему европейской знаменитостью уже в конце 1920-х, новые власти Рейха в 1933 году предложили пост ректора Фрайбургского университета. Он это предложение принял, и год пробыл на посту. После отставки по собственному желанию Хайдеггер продолжил преподавать, и, если верить студентам, которые защищали его после войны, на его лекциях царил свободный дух, далекий от нацистского официоза, а подчас звучала и критика режима.
За время своего начальствования Хайдеггер успел поучаствовать в строительстве «новой немецкой науки» и поддержать фюрер-принцип, основу партийного и государственного строительства в Третьем рейхе, в котором новоиспеченный ректор увидел возможность решительно открыться бытию, очистить гуманитарные кафедры от бесплодного интеллектуального кривляния и академической волокиты, а в конечном счете пробудить в немцах их бытийно-историческую задачу — быть светочем миру: не просто оставаться наследниками эллинского духа через немецкую классическую философию и ее завершение (вместе со всей мировой метафизикой) в ницшеанстве, но провозвестить и обустроить новое начало мышления, учредить новую эру.
Хайдеггеру с самого начала претила расистско-биологическая сторона нацизма, которая наследовала философии Нового времени и позитивизму, и он надеялся на постепенное очищение гитлеровского движения от подобных составляющих, а также на приближение к «подлинному национал-социализму», бытийно-исторически укорененной воле немецкого народа.
Из личных записей философа следует, что через свое ректорство он надеялся добиться не только глубокого преображения немецких университетов, но и влияния на самого Гитлера, в котором Хайдеггер видел потенциал, превосходящий идеологическую партийность нацизма.
Известно его письмо философу Карлу Ясперсу, женатому на еврейке. В ответ на упреки в бескультурье и необразованности, которые Ясперс адресует Гитлеру, Хайдеггер пишет: «Образование не имеет значения. Вы лучше посмотрите на его потрясающие руки!» Хайдеггер увидел руки, которые призваны к руко-водству, к фюрерствованию, к «пробуждению новой реальности».

Но уже скоро Хайдеггер понял, что «вступил в свою должность слишком рано, или, лучше сказать: абсолютно напрасно». Он обнаружил, что нацистские функционеры не особенно заинтересованы в реформировании высшей школы, каким его представлял себе Хайдеггер. По его мнению, проходила не реформа, а ее имитация. Философ отстраняется от роли функционера, записывая в «Черных тетрадях»: «Мы останемся на невидимом фронте тайной духовной Германии».
На Хайдеггера обрушивается критика прямолинейных нацистов: директора Института политической педагогики Альфреда Боймлера и профессора философии и педагогики Гейдельбергского университета Эрнста Крика. Хайдеггеру вменяют «идеализм», пренебрежение идеалами расы и крови, приспособленчество. Для многих нацистов Хайдеггер тоже «попутчик», не идейный борец, а личность, заинтересованная в продвижении через нацизм собственных целей.
Хайдеггер не вступает в полемику с идеологами в партийных мундирах, а только раздраженно фиксирует в дневниках факт их скудоумия. Всех вовлеченных в интеллектуальную жизнь людей в Немецком рейхе он делит на пять категорий: «крикуны, смотрящие только назад, посредственности, равнодушные и редкостные». Сам он и те немногие, кто его понимают, — редкостные.
«В борьбу я вступаю только с противниками, а не с болтливыми посредственностями», — записывает Хайдеггер относительно выпадов Боймлера и Крика. Этой же мыслью он руководствовался и после поражения Германии в 1945 году. Хайдеггер не стал спорить, юлить, оправдываться, каяться. Эта позиция получила название «молчание Хайдеггера».
Хайдеггер не был «попутчиком» и приспособленцем ни в первой половине 1930-х, когда вступил в НСДАП, ни во второй половине 1940-х, когда предпочел мучительный запрет на преподавание и публикации вилянию хвостом перед новыми властями Европы. Но означает ли это, что Хайдеггер во всем поддерживал гитлеровскую политику? Разумеется, нет.
Философ ввязался в дело нацизма, поскольку был идейно близок к общему пафосу и отдельным элементам консервативной революции, но никогда не представлял собой ни фанатика, ни ортодокса партийной программы, вслух заявляя о несогласии с некоторыми ее пунктами. К этому стоит добавить, что, несмотря на усилия Альфреда Розенберга, никакой общей или единой философии национал-социализма так и не возникло, и это коренным образом отличает Третий рейх от СССР с его институтами марксизма-ленинизма и официальными, рационализированными и институализированными идеологическими и методологическими нормами.
В нацистской культуре идей царил разнобой, вполне отвечающий философии жизни, которая с подозрением относится к мировоззренческой схематизации: расисты-биологизаторы безуспешно пытались найти общий язык с неоязычниками и народниками под крылом рейхсфюрера СС, им противостояли дипломированные гуманитарии из ведомства Розенберга, а над теми и другими при случае хихикал сам Гитлер, который при всем своем темном романтизме и тяге к искусству оставался в первую очередь политиком-прагматиком. Еще шире был спектр тех консервативных революционеров, начиная от национал-большевиков и заканчивая правыми католиками, которые остались за бортом гитлеровской революции.
Нацизм был мощным мифом, гипнотическим сгущением знаков, но не обладал ни философской прозрачностью, ни идеологической однозначностью. Неудивительно, что многие увидели в нем что-то близкое, отметая или не замечая видения других соратников.

Одно из прегрешений, которые наиболее часто ставятся в вину Хайдеггеру, это — предательство по отношению к своему учителю, основоположнику феноменологии Эдмунду Гуссерлю, который, будучи евреем, в апреле 1933 года лишился статуса почетного профессора Фрайбургского университета. Хайдеггер никак не отреагировал на это событие, а вскоре из новых изданий хайдеггеровского «Бытия и времени» исчезло посвящение Гуссерлю. Еще Хайдеггер не пришел на его похороны и не прислал соболезнования его жене.
Читайте также
Что такое феноменология и чем занимаются русские феноменологи
Известно, что Хайдеггер написал донос на фрайбургского профессора химии Германа Штаудингера, пацифиста. Нацистские чиновники некоторое время «помурыжили» талантливого химика, а затем восстановили его в прежней должности.
Доносом Хайдеггер мстил и своему оппоненту Эдуарду Баумгартену, который «неправильно» трактовал философию американского прагматизма. В доносе говорилось о том, что Баумгартен «принадлежит к числу либеральных демократов, близких к Максу Веберу» и «ни в коей мере не был национал-социалистом», а кроме того, дружит с бывшими профессорами-евреями. Интересно, что и этот донос не сработал, поскольку чиновники увидели в нем мотивы личной ненависти. Философские трактаты у Хайдеггера выходили убедительными, а кляузы — нет.
Позднее Ханна Арендт, бывшая любовница Хайдеггера, и Карл Ясперс, с которым он когда-то дружил, в своей переписке назовут философа «потенциальным убийцей», припомнив ему среди прочего и то, что «своим поведением он разбил сердце Гуссерля». Гуссерль умер от воспаления легких в 1938 году.
А если бы Гуссерль умер, скажем, от удара на фоне расстройства от «поведения» своего бывшего аспиранта? Исполнили бы Арендт и Ясперс свой моральный долг, уничтожив Хайдеггера после войны? Возможно, Арендт, по крайней мере, не стала бы помогать Хайдеггеру и добиваться восстановления его преподавательского статуса? Неизвестно. Интеллектуалы редко доводят злые дела до конца. Но Хайдеггер как будто был из другой породы.
Удивительно, конечно, как такому вредному, высокомерному, упрямому, несовременному и каверзному человеку удалось стать «философом номер один» ХХ века, ведь обычно первые места достаются прогибчивым, добреньким людям. Seingeschichte, судьба бытия, похоже, радела за неудобного профессора Хайдеггера.
Благодаря публикации «Черных тетрадей» прояснилась природа особого, так сказать, философского антисемитизма Хайдеггера. Он рассматривает неукорененное еврейское начало (das Judentum) как один из двигателей европейского делячества, махеншафта (Machenschaft). Современный мир, по мнению Хайдеггера, утрачивает свою мировость и растворяется в гигантском, глобальном (des Riesigen), а еврейство, еще раньше ставшее жертвой этой утраты, способствует такому процессу.
Лишенные своей земли и судьбы, обреченные выживать среди чужого, еврейские общины привносят дух, разрушающий немецкую народную сущность, дух «подчеркнуто расчетливой одаренности», суетной погони за выгодой, столь отвечающий прогрессистской и космополитической повестке как либерального капитализма, так и материалистического марксизма. В этих обвинениях, однако, нет ничего биологического: раса у Хайдеггера формируется не из жизни, а под действием таких начал, как власть, политика и история.
Хайдеггер невероятно далек от карательной бюрократии и машинерии смерти, в которую в итоге вылилось «решение еврейского вопроса» немецкими властями. Любая машинерия отвратительна Хайдеггеру, и он прямо пишет, что национал-социализм сам объят технократическим и расчетливым духом махеншафта.
Важно также понимать, что Хайдеггер не вменяет в вину еврейству опустошающую глобализацию, а, напротив, считает, что еврейство стало первой жертвой этого процесса, имеющего корни вовсе не в сговоре сионских мудрецов, а в бытийно-исторических особенностях человеческого мышления, отношения человека к бытию в поставе.
Хайдеггеру не чужд антисемитский дискурс о губительной роли мирового еврейства, но у него нет претензий к каждому конкретному еврею.
Более того, находясь на посту ректора, Хайдеггер пытался спасти карьеру по меньшей мере двух профессоров-евреев, которых он причислял к «благородным евреям», то есть таким, которые вышли за пределы, положенные их происхождением, и уже не являются частью еврейского начала, а, напротив, могут быть образцами для общества. Другое дело, замечает биограф философа Отто Пёггелер, что в этих попытках Хайдеггер исходил вовсе не из представления о правах человека, общих для всех, а из представлений элитарного, иерархического, антидемократического порядка. Хайдеггер делил людей на благородных и неблагородных, но не по этническому признаку.
В одном из писем к Ханне Арендт Хайдеггер называл слухи о своем антисемитизме клеветой. Многие задаются вопросом, почему еврейка Ханна Арендт, бежавшая из Третьего рейха, всегда боровшаяся с тоталитаризмом, тем не менее беззаветно любила и защищала Хайдеггера всю свою жизнь. Но ведь Арендт и саму обвиняли в антисемитизме, когда она не поддержала военную агрессию Израиля, а своей книгой «Банальность зла», в которой рассматривает личность Адольфа Эйхмана и его роль в истории Холокоста, посмела утверждать, что евреев убивали вовсе не чудовища из политической мифологии, а вполне обычные люди, граждане-бюрократы.
Арендт говорила, что может любить отдельных людей, но не умеет любить целые народы и нации. Она никогда не делила мир на черное и белое, а потому не только в своей интеллектуальной деятельности, но и в своем отношении к Хайдеггеру оставалась настоящим философом.
Политизированные критики Хайдеггера, напротив, подчас склонны мыслить тоталитарно, мазать широкими мазками и не разбираться в нюансах. Порой можно обнаружить и такие сомнительные методы, как выхватывание цитат из контекста. К примеру, Ричард Волин из Городского университета Нью-Йорка утверждает: если что Хайдеггера в нацистах и не устраивало, так это их «недостаточная радикальность». В доказательство он приводит такой пассаж из «Черных тетрадей»:
«Национал-социализм — варварский принцип. Это его сущностное свойство и его возможное величие. Опасность представляет не он сам — но то, что его умаляют до проповеди истинного, доброго и прекрасного».
Получается так, будто бы Хайдеггер стремится избавить нацизм от всякого намека на человечность и сделать его еще более кровожадным. Меж тем философ лишь выражает недовольство (давайте посмотрим, что говорится далее в этом тексте) тем, что участники пропагандистского инструктажа желают «творить философию» национал-социализма, но «ничего другого для этого не используют, кроме традиционной „логики“ дюжинного мышления и точной науки, вместо того чтобы понять, что теперь именно „логика“ снова оказывается в нужде и нищете и должна возникнуть заново».
Хайдеггер указывает на интеллектуальное безволие и слабость официальных нацистских идеологов, неспособность их умов возвыситься до проблематики бытийного порядка. В конце концов, критикуемая Хайдеггером сопричастность нацизма исторической программе модерна, научно-технической логике постава и привела Германию к костодробилкам и газенвагенам, то есть к моральному поражению, а заодно скомпрометировала идеи консервативной революции в целом. Иначе говоря, глобальные силы махеншафт одолели нацизм не только извне, но и изнутри.
Хотя Хайдеггер и не выступал с осуждением национал-социализма, он сожалел о своем ректорстве. Вероятно, этот административный опыт он рассматривал сквозь сложную философскую перспективу, в которой любой человек (а вместе с человеком его сообщество) рискует по существу, судьбоносно.
По Хайдеггеру человек, который различает зов бытия, не должен отворачиваться от своей судьбы в расчете на то, что ему удастся избежать несчастья (Unheil). В игре бессмертных богов и смертных людей слишком легко опошлиться, укрываясь от риска. В этом случае игра надоедает богам, и они улетучиваются.
Гельдерлин видит этот процесс как возвещение или знак беды. Unheil с немецкого не только «беда», но также «неудача», «несвятость», «неблаго». Скудные времена, лишенные божественности, времена торжества расчета и рынка — это также Unheil. В каких отношениях бесславное и бедовое (Unheil) находится со славой (Heil)? Князь философов мыслит эти отношения так:
«Несчастье как беда нащупывает нам след блага. Благо дает намек, призывая священное. Священное связывает с божественным. Божественное сближает с Богом».
М. Хайдеггер. К чему поэты?
Беда, которой обернулась Вторая мировая война для Германии, закончилась денацификацией страны, в результате которой Хайдеггер остался без работы. Ему было запрещено выступать. В конце 1940-х Хайдеггеру удалось прочесть несколько лекций в санаториях, но на них собирались преимущественно представители бомонда, малоспособные к философскому погружению. Только в 1950-х годах, во многом благодаря усилиям Ханны Арендт, Хайдеггер снова начинает читать лекции.
Философ открытости: Хайдеггер и небо
Имена Ницше и Хайдеггера навсегда связаны благодаря целому ряду публикаций, в которых Хайдеггер разбирает философию Ницше, показывая, как тот завершает метафизическую мысль, открытую в Древней Греции и доселе питавшую европейский мир.
Интеллектуалы Третьего рейха вели борьбу за право интерпретировать Ницше, и в этой борьбе Хайдеггер действительно оказался среди оппозиционеров. Он отвергал партийно-милитаристское истолкование концепции воли к власти Альфредом Боймлером и показывал, что философия Ницше не сводима ни к каким эрзацам.

Ницше — один из важнейших исторических собеседников Хайдеггера. И оба они беседовали через века с Гераклитом, в том числе по вопросам, связанным с судьбой и отношением к ней. Ницше представлял судьбу как игру случайностей, которые обессмысливают понятие вины и придают легкость бытию — в этом благородство судьбы. Он писал об игре на двух игральных столах, столе земли и столе небес: боги бросают игральные кости на стол земли, а их значение выпадает на столе небес. Небо в этом случае предстает помостом, где танцуют божественные случайности, а земля — столом богов, где раздается шум от падающих игральных костей.
У Хайдеггера небо манифестирует истину и меру, высвечивающую всё сущее, благородно утверждает мир в его явленности. У Ницше небо высоко и чисто, всегда свободно от «вечного паука-разума» и его паутины. Эти философские иллюстрации словно бы раскрывают максиму Гераклита: «Время мира — это ребенок, играющий в кости. Его игра — царствование». Игра в качестве игры в кости, которые мечут на земле, а читают на небе, у Ницше представляет трансмутацию низкого в высокое: смех превращает мучения в радость, танец обращает тяжелое в легкое, любовь к року дает возможность быть захваченным волей к жизни.
После войны в философии Хайдеггера появился новый герменевтический конструкт, в котором сошлись боги (бессмертные), люди (смертные), небо и земля. Речь идет о так называемой Четверице (das Geviert), обрисованной в 1950 году в докладе «Вещь». Вещь (das Ding) в этой работе мыслится как нечто, объединенное через Четверицу со всеми другими вещами, благодаря чему удостоверяется подлинность вещи перед тем, как может быть узнана ее суть, ее неповторимый смысл. Этот смысл — не предметно-объектное, подручное назначение вещи как инструмента, но скорее из-вестие вещи о бытии, живущем в сопряженности неба, земли, смертности и бессмертия.
Западный ум был занят со времен Парменида метафизическим, техническим постижением сущего, заостряя мысль на единстве (отсюда — единицы, двоичности и троичности: вершина, диалектика, теология), и Четверица в этом отношении стала интеллектуальным вызовом философской традиции Европы. Онтическое (мифопоэтическое) растворено в этой Четверице, но осмысляется она на фундаменталь-онтологическом уровне, когда связь смерти и бессмертия постигается во взаимоотношениях богов и людей, мир и мировость — в открытости неба, а всякое основание — через землю.
Как отмечает Е. Фалёв, хайдеггеровская Четверица бездоказательна, но несет непосредственную убедительность образа. Четверица выводит мышление к поэзии, а именно в ней, полагал Хайдеггер, содержится исток и свободное начало человеческой мысли.
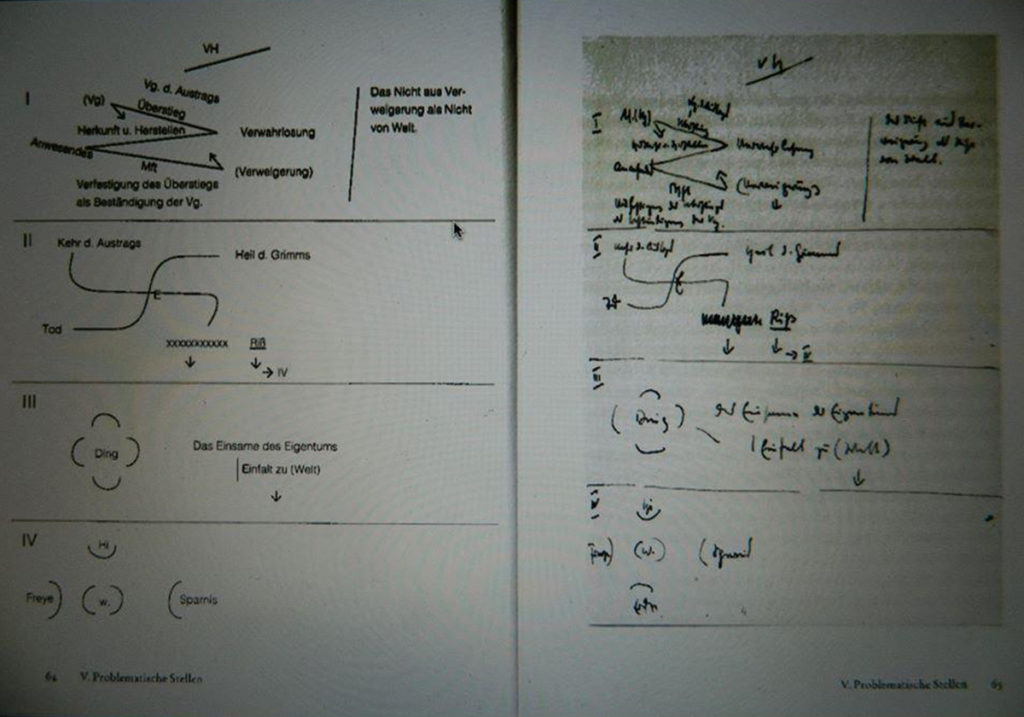
Небо у Хайдеггера соответствует идее мира, миропорядка и мировости, света, в котором происходит опознание и наименование вещи. Открытое небо — это источник и пространство света: свет просвещает, открывает, именует. Небесный свет как бы открывает опечатанность земли, благодаря чему приводит к наличию живую природу.
Может быть интересно
Духи — порожденные человеком, но реальные: как антропологи поверили в призраков и божеств
Мир в учении о Четверице воспринимается и как свет (этот свет, тот свет, свет вообще, небо или греческий уранос), и как миропорядок (космос). Космос не есть хаос в той мере, в которой Уран и Гея первые отделяются от хаоса. Уран открывает опечатанность Геи, всё приводящей к наличию в мире. Земля же и земные вещи представляют текучее и переменчивое единогласие.
Хайдеггер оживляет эллинское видение, совершая его онтологическую деконструкцию, показывая, как вместе с миром, открывающим себя, все вещи этого мира обретают «свое промедление и свое ускорение, свою дальность и свою близость, свою ширину и свою узость».
Не стоит воспринимать разговор о земле и небе как метафору. Те четыре онтологические области, своего рода параметры бытия, которые выделил Хайдеггер, нужно рассматривать не как проективные и подлежащие аналитике понятия, а как самосогласованные концепты. Отто Пёггелер подмечает, что хайдеггеровские небо и земля не в большей степени метафора, чем привычный нам термин «горизонт». Мы привыкли говорить «горизонт события», «горизонт знания», «горизонт культуры» — так почему бы не поговорить об ураносе и гее, выйдя за пределы хрестоматии по античной мифологии?
В Четверице мир и небо — одно и то же. Можно сказать, что мир-небо открывает пути всякой вещи на земле. В этом заключается важный смысл герменевтической Четверицы.
«Мир не простое скопление наличествующих счетных и несчетных, знакомых и незнакомых вещей. Но мир — это и не воображаемая рамка, добавляемая к сумме всего наличествующего. Мир бытийствует, и в своем бытийствовании он бытийнее всего того осязаемого и внятного, что мы принимаем за родное себе. Мир никогда не бывает предметом, который стоит перед нами, который мы можем созерцать».
М. Хайдеггер. Исток художественного творения
Человек в Четверице стоит перед ничто, он экзистирует как конечное сущее. Богов (бессмертных) можно обнаружить в их легкой игре, в возможности как могуществе бытия. Земля — это производящее основание, скрывающее за собой безосновность, бездну. А небо, которое дарует мировость мира и исполняет логос, конечно же, манифестирует еще и временение, поступь времени.
Мы имеем дело со временем, но время не есть нечто временное. Мы имеем дело с бытием, но бытие не есть нечто сущее (существующее), поскольку бытие — само то, что дает сущему существовать. Бытие и время сходятся в просвете бытия, в вот-бытии (дазайне), которое бытийствует в бытии человека в мире и в горизонте его смертности (безосновности), выдвинутости в ничто, куда человека выдвигает время; так бытие встречается с самим собой (с присутствием, с вот-бытием), и эта встреча проходит вдоль смертности смертного человека. Безосновность (разверзание земли) являет бытие-к-смерти: в таковом человек может сталкиваться с божественностью и обнаружением бытия во времени — через высвечивание мировости светом мира-неба.
Синева неба, конечно же, заявляет себя не только в текстах Хайдеггера, но и в его жизни. В 1946 году Хайдеггер, деморализованный крушением Германии и денацификацией («инквизиторскими допросами», как называл это Хайдеггер), проходит курс лечения от депрессии у барона Виктора фон Гебзаттеля, врача и психолога, принадлежащего к школе экзистенциального психоанализа, которая была основана Людвигом Бинсвангером.
Бинсвангер первым соединил достижения психоанализа, знания психиатрии и аппарат экзистенциальной философии, черпая вдохновение и знание в работах Хайдеггера, Гуссерля, Бубера. Интересно, что Людвиг Бинсвангер был племянником Отто Бинсвангера, который наблюдал и лечил Фридриха Ницше. Судьбы великих немецких философов, связанные через неизбежное обращение к досократикам, через истолкование мировых механизмов нигилизма, а также через «впутанность» в радикальный политический дискурс, соприкоснулась и через кровную рифму швейцарской медицинской династии — цепочку философских идей, нашедших свое продолжение в психологии.
Но что же делал Виктор фон Гебзаттель, ученик Людвига Бинсвангера, со своим пациентом? Из слов Хайдеггера можно заключить, что доктор всего лишь прогулялся с философом и показал ему небо:
«Для начала просто поднялся со мной через заснеженный зимний лес к синеве неба. Больше он ничего не делал. Но он по-человечески мне помог. И через три недели я вернулся домой здоровым».
Когда евреи спасали нацистов
Последователем школы Бинсвангера был, кстати, и позднее подружившийся с Хайдеггером Медард Босс, швейцарский психиатр и психолог, разработавший методы терапии через дазайн, который он понимал как начало, позволяющее высвечивать феномены и переживания, выводить их на свет. Человек, открывающий себя в дазайн, оказывается внутри открытости неба и мира-света, и все вещи, с которыми он имеет дело, предстают освещенными и наименованными, экзистенциально связанными.
На образах темноты и света и циркуляции человеческого существа в них Босс выстроил свое объяснение функционирования психической защиты, подавления травматических переживаний, развития психопатии, формирования сновидений. Тот же Босс в одной из работ рассказал о небогатой сновидческой жизни Хайдеггера. Со студенческих лет тому снилось только одно единственное сновидение, в котором он снова и снова сдавал экзамен на аттестат зрелости в гимназии; этот сон оставил Хайдеггера лишь тогда, когда философ помыслил бытие как со-бытие (Ereignis), чем открыл новый период своего творчества. Вероятно, уход навязчивого сновидения знаменовал подлинное, единственно возможное обретение своего знания о бытии Хайдеггером.
Может быть интересно
Шизофрения, диктатура языка и критика капитализма. Как последователи Фрейда развивали его теорию
Развитие экзистенциальных идей и герменевтики привело к появлению целого ряда новых психотерапевтических школ. Помимо упомянутых выше Бинсвангера и Босса стоит назвать известную специалистку в области дазайн-анализа Алису Хольцхей-Кунц, экзистенциально-гуманистического психотерапевта и писателя Ирвина Ялома, основоположника логотерапии Виктора Франкла и его ученика, нашего современника Альфрида Лэнгле. О Франкле скажем отдельно.
Виктор Франкл, еврей по происхождению, был одной из жертв нацистского режима. Он пережил пребывание в концлагерях, где погибли его родные. В заключении Франкл помогал людям переносить обрушившиеся на них тяготы и не терять смысла жизни. Позднее Франкл опубликовал ставшую бестселлером книгу «Психолог в концентрационном лагере». Это была не «биография героя», а документ, свидетельствующий о человеческих возможностях в экстремальных условиях.
Однажды Хайдеггер посетил Франкла в Вене. Позднее психотерапевт вспоминал, что дискуссия, которую они вели в Вене, стала одним из «ценнейших переживаний» в его жизни. На память о встрече Франклу осталась их совместная фотография, на обороте которой Хайдеггер написал: «Прошлое проходит. Былое остается».
Эта фраза не только напоминает об историческом опыте, который так по-разному пережили Хайдеггер и Франкл, но и раскрывает один из аспектов хайдеггеровской философии: бытие времени, будь то будущее или былое, пребывает сбывающимся по существу, никуда не уходит, а уходит только то, что может уйти — прошлое или грядущее. Былое бытия возвращается, отсеивая проходящее сущего, являя основу будущего для экзистенциального заступания человека в его жизненное время.
Хайдеггер и Франкл были тонкими мыслителями, а значит, могли разобрать, каждый на уровне своего жизненного пути и оба на уровне эпохи, что прошло как прошлое, а что бытийствует в качестве былого, предлагая обоим возможность и силу созидательного сотрудничества. Мастер экзистенциальной терапии, ученик Франкла и его биограф Альфрид Лэнгле так описывает понимание времени своим учителем:
«В своих бесчисленных выступлениях Франкл не уставал повторять, что люди часто видят лишь „жнивье преходящего“, не замечая „полных амбаров былого. В прошедшем нет ничего безвозвратно утраченного — напротив, всё стало неотъемлемым...“».

По мнению Лэнгле, Хайдеггер едва ли искал от дружбы с Франклом возможности обелиться, смыть с себя тень национал-социализма. Что касается самого Франкла, то он всегда возражал против тотальных обвинительных логик, против нападок на людей на основании одной лишь их принадлежности к той или иной группе.
Франкл, потерявший в концлагерях жену и родителей, не раз призывал прекратить навязывать немецкому народу комплекс вины.
Он не считал врагами рода человеческого поголовно всех членов НСДАП. Во время денацификации Франкл защищал своего учителя, венского профессора Отто Петцеля, который поддерживал Гитлера и носил партийную символику. Несмотря на членство в НСДАП, Петцель не был антисемитом и всеми силами помогал работе еврейской клиники Франкла. Впрочем, заступничество Франкла не помогло, и новые власти лишили Петцеля права на профессию.
Позднее Франкл спрятал у себя дома другого «нацистского врача», который должен был предстать перед скорым на расправу чрезвычайным судом. Еще одну свою коллегу-немку Франкл спас от смертного приговора, выступив свидетелем на ее процессе.
Сегодня довольно часто можно встретить осуждение Хайдеггера, а заодно и всей его философии по партийному признаку. Нынешние «антифашисты», желающие быть святее папы римского, игнорируют показания и действия таких людей, как Ханна Арендт и Виктор Франкл, реально претерпевших от гитлеровского государства. Они также игнорируют предостережение, звучащее в философии этих мыслителей, то предостережение, которое делает и Хайдеггер, — предостережение против тотальных логик, против рационально-механизированного, конвейерного суждения о людях и феноменах, против социального клиширования, сведения человека и его отношений к наличному, без всякой заботы о бытии, которое у человека всегда есть бытие-в-мире и бытие-с-другим.
