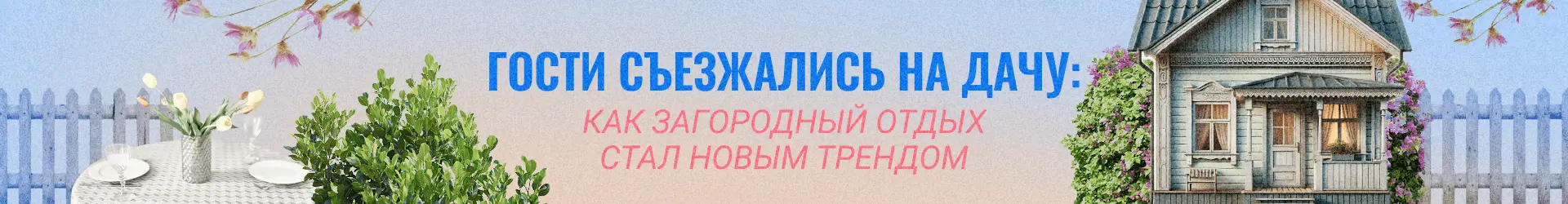Десять ликов надежды. Что думали о надежде философы и какое отношение имеют к ней страх, политика и неопределенность
По легенде, пересказанной Гесиодом, надежда упала на человечество из ящика Пандоры вместе со всевозможными бедствиями как отравленный подарок мстительного Зевса. Точнее, чуть не упала. Пандора открыла ящик по приказу Зевса и по его же приказу закрыла, и только надежда осталась под крышкой. Хранилась ли она в ящике как наказание для нас или, наоборот, береглась от нас как исключительно божественная привилегия, подобная огню, который Прометей украл для человечества? С тех пор философия интерпретирует надежду совершенно по-разному: она представляется нам то добродетелью, то проклятием. Что же это в конце концов такое?
Перед тем как копаться в философии и психологии надежды, стоит сперва всмотреться в само это слово. Ведь, несмотря на свою противоречивую природу, надежда вычленилась во многих языках отдельным понятием. Пробежимся по его романским, германским и славянским корням и заодно взглянем на их протоиндоевропейских прародителей.
Начнем с английского языка как с самого яркого представителя германской группы. Современное слово hope происходит от староанглийского глагола hopian, что значит «уповать на слово Божье». Кроме теологических коннотаций слово имеет и светское значение «доверять; предполагать уверенно, что что-то есть или будет так». В этом источнике указывается, что это слово неизвестного происхождения и не является обычным германским термином. Там же упоминается существительное hopa, которое приблизительно с 1200 года начало означать «ожидание чего-то желаемого».
До происхождения слова hope всё-таки можно докопаться в других открытых источниках. Но для этого нужно нащупать языковую нить, которая еще не разделилась на германские или романские ветви и была одним большим протоиндоевропейским языком. Эта нить так далеко от нас во времени, что мы можем ее только предполагать. Нет прямых доказательств реального существования протоиндоевропейского языка, это всего лишь реконструкция, предполагаемая модель.
Но если предположить, что он всё-таки был, то этимология слова hope восходит к целым двум протоиндоевропейским корням — kewb- и kāb-, которые в протогерманском превратились в hōpą. Похоже, это слово обозначало всё круглое: склон, изгиб, арку, кольцо, обруч… Выходит, это общий прародитель слов hope и… hoop («обруч, кольцо»).
Возможно, в глазах германских народов надежда имела символическую форму, и эта форма — круг.
Здесь можно спекулировать на особом значении символа кольца в германской мифологии, которое обыгрывается в операх Вагнера и произведениях Толкина.

На загадочной ноте германской мифологии переходим к надежде на других языках.
В греческой мифологии надеждой было скорее нейтральное слово elpis. Та же сущность в римской мифологии называлась латинским словом Spes. И это слово было заряжено гораздо больше, нежели его греческий вдохновитель. Spes являлось одним из олицетворений римского культа добродетелей. У римлян, в отличие от греков, поклонение Spes было полноценным культом: в честь нее возводились храмы.
Слово Spes разлилось по всем романским языкам. А во французском даже раздвоилось на espoir и espérance. Источники поясняют, что espoir — человеческих и повседневных размеров, а espérance — что-то высокое и трансцендентальное. На Бога надейся, а сам не плошай: так и вышло раздвоение одной надежды на два понятия разных масштабов.
Латинское слово spes и русские слова успех и спесь имеют одного прародителя из протоиндоевропейского языка — spéh. Это слово образовало вокруг себя семантическое поле преуспевания и уверенности в собственных силах. Причем русское спесь как уверенность в собственных силах имеет негативную коннотацию.
Надежда тесно переплетается со множеством других явлений.
Надежда идет рука об руку с верой
Она окончательно кристаллизовалась как концепт под пером религиозных мыслителей. Именно религия заставила человека обратить на надежду свой зачарованный взор.
Везде, где подчеркивается либо возможность будущей жизни за пределами этого мира, либо идея человеческого прогресса, надежда чаще всего рассматривается как отношение, которое позволяет людям направить свою деятельность на эти возможности.
Компонент веры в надежде отражает интуицию, согласно которой мы обычно не надеемся на то, что считаем невозможным. На невозможное мы не надеемся, но можем продолжать его хотеть. Невозможность для желаний не является проблемой. Мы все хоть раз в жизни хотели полетать на собственных крыльях. Но мы не надеялись и не надеемся сделать это, правда?
Недаром Фома Аквинский объединил вместе добродетели веры, надежды и любви.
Конечно, позже Петр Ломбардский засомневался в том, должны ли быть вера и надежда в одной связке, как это утверждал Фома. По Ломбардскому, если есть вера, то уже не нужно надежды. То есть если мы надеемся, значит, в нас мало веры. Вот незадача. Ломбардский вышел из этой неловкой ситуации, снова вписав надежду в связку с верой, оправдывая это тем, что надежда всё-таки дает человеку возможность представить будущую славу второго пришествия.
Томас Гоббс тоже смешивал надежду и веру вместе: для него постоянная надежда называется верой. Если пойти от обратного, то надежда для него — это всего лишь непостоянная вера.
В надежде меньше веры, чем в самой вере, это бесспорно. Но почему? Может быть, потому, что кроме веры у надежды полно других неожиданных спутников. Как бы это ни было парадоксально, с надеждой встречается не только вера, но и неопределенность.
Надежда идет рука об руку с неопределенностью
Мы можем надеяться только на вещи, в которых мы не уверены. Если мы думаем, что что-то невозможно, мы не можем на это надеяться, а если мы уверены в этом — нам уже не нужна надежда, мы просто ждем это. Многие философы считают, что надежда, понимаемая правильно, не зависит от оценки вероятности того, на что мы надеемся. Получается, неопределенность от надежды неотделима.
Для Дэвида Юма надежда — это «непосредственная страсть» (direct passion), которая возникает, когда разум устремляет взгляд на события, вероятность которых находится на отрезке между абсолютной уверенностью и абсолютной невозможностью.
Согласно Декарту, надежда — это более слабая форма уверенности. Она состоит из представления результата как позитивного для нас и возможного вместе с предрасположенностью считать его вероятным, но не определенным. Значит, надежда и тревога всегда сопутствуют друг другу, в отличие от абсолютно противоположных отчаяния и уверенности.
Неопределенность — это так же тревожно, как и конец света?
Надежда идет рука об руку с концом света
Апостол Павел в Послании к Коринфянам писал, что земная жизнь — только эмбрион. Мы преисполнимся только тогда, когда встретимся с Богом. Встречу с Богом, на которую возлагается христианская надежда, можно интерпретировать и как смерть отдельного человека, и как конец света, второе пришествие. Да, во вкусе надежды чувствуется эсхатологическая нотка.
Неоплатоник Августин говорил, что мы живем, подвешенные на вешалке времени в надежде на освобождение Вечностью. Гегель смотрел на надежду с того же самого угла, только не в статике. Для него надежда — это полноправный участник динамики истории, которая толкает ее в конец, к своей преисполненности.
Конец и неопределенность — это страшно?
Надежда идет рука об руку со страхом
Сенека писал, что надежда и страх «связаны друг с другом, какими бы не связанными они ни казались. И хотя они совершенно разные, они маршируют в унисон, как заключенный и конвоир, к которому он прикован наручниками. Страх идет в ногу с надеждой. Меня не удивляет их совместное движение: оба они принадлежат уму, находящемуся в напряжении подвешенного состояния, уму, испытывающему тревогу при взгляде в будущее. И то, и другое происходит главным образом из-за того, что мы проецируем свои мысли далеко вперед, вместо того чтобы приспосабливаться к настоящему».
Сенека, как и другие стоики, отрицательно относился к концепту надежды.
Спиноза вообще называл надежду одной из причин суеверия, потому что она всегда сопровождается страхом.
А страх — самое что ни на есть политическое чувство.

Надежда идет рука об руку с политикой
Политики непрестанно взывают к надежде в своем дискурсе. Это немудрено, если верить Августину, который утверждал, что надежда необходима для коллективного счастья.
Как Спиноза объясняет в «Богословско-политическом трактате», тот факт, что людьми управляют надежда и страх, делает их легкими жертвами суеверий и ложной веры. Надежда и страх таят в себе основы политической власти.
Надежда играет существенную роль и в политическом применении моральной психологии Томаса Гоббса. В «Левиафане» он писал о том, что законы природы повелевают искать мира там, где есть надежда на его обретение. Выходит, как проблемы общества, так и их решения зависят от того, какие надежды могут рационально питать индивиды.
Надежда нужна политике по трем причинам.
Во-первых, она создает питательную почву для существования политики как таковой. Зачем вообще политика, когда всё безнадежно?
Во-вторых, она мотивирует достигать политических целей. С надеждой на светлое коммунистическое будущее гораздо проще выполнять пятилетку в три года.
А Спиноза утверждал, что гражданское действие существует благодаря гражданской надежде, которая позволяет нам видеть друг в друге источники потенциальных благ.
В-третьих, надежда может оказаться единственным аргументом, способным публично оправдать даже самые страшные политические преступления. Правильно «настроенная» надежда может развязать руки политикам. Например, ограничение свободы передвижения можно оправдать надеждой на более безопасное будущее. Геноцид можно технически оправдать только надеждой, надеждой на жизнь в обществе, «свободном» от какого-либо народа.
С политической точки зрения отсутствие надежды — это либо злость и бунт, либо смирение и полная остановка желания. То есть без надежды политика либо горит в яростном огне революции, либо чахнет и застаивается.
Вроде как через любое наше действие, особенно политическое, мы стремимся к счастью. Стремимся ли мы к счастью через надежду?
Идет ли надежда рука об руку со счастьем?
Для Кьеркегора точно да. А вот для экзистенциалистов точно нет: только будучи освобожденными от надежды, мы можем почувствовать настоящее экзистенциалистское счастье.
Камю берет в пример миф о Сизифе. Том самом Сизифе, обреченном вечно поднимать в гору камень, который рано или поздно скатится, и ему неизбежно придется поднимать его вновь. Камю говорит, что в этом человеке мы видим человека счастливого, как раз таки потому, что он абсолютно избавлен от надежды и при этом продолжает делать то, что должен. Ему не нужны иллюзии для того, чтобы неустанно действовать, даже если его действие бесконечно абсурдно. Сизиф концентрируется на действии, на «здесь и сейчас».
Ценность «здесь и сейчас» затмевает блеск надежды: и экзистенциалисты, и стоики пренебрегали ей как раз из-за того, что она направлена в будущее, отвлекая человека от того самого момента настоящего.
Если у раннего Ницше надежда была всего лишь источником разочарования, то для позднего Ницше надежда становится радугой, которая делает нашу земную жизнь лучше. Он восклицал:
«Ваша любовь к жизни да будет любовью к вашей высшей надежде — а этой высшей надеждой пусть будет высшая мысль о жизни!»
Через сопоставление с концептом о счастье разные философы видят в надежде и дар, и проклятье.
Надежда идет рука об руку со своей двойственной природой
Аквинский разделяет обычную и теологическую надежду. Обычная надежда — это страсть, простое предвкушение удовлетворения желания. Но теологическая надежда, по Аквинскому, — это не страсть, а добродетель и привычка воли, причем тесно связанная с «даром страха».
Платон тоже говорил о разных надеждах. В этом христианский богослов и греческий философ сошлись. Для Платона одна надежда связана с ее прилипчивостью к необразованным. Но есть и другая надежда, взращиваемая философией и любовью, которая позволяет видеть идеальные формы, находящиеся за пределами Вселенной.
Разделение французами надежды на два отдельных слова уже не кажется таким чудачеством.
Как греческие философы, так и христианские богословы пытались по-своему объяснить миф о ящике Пандоры, в котором осталась надежда. А миф этот можно интерпретировать двояко как раз таки из-за «нейтралитета» греческого слова elpis. Пессимистичная трактовка настаивала на том, что надежда — это зло, потому что лишает человека его трудолюбия и усердия. Христианская трактовка надежды была оптимистичной. Христианские богословы утверждали, что надежда призвана облегчить нам зло, которое неизбежно проникает в наше земное существование. Феогнид Мегарский писал, что надежда — это единственное добро, оставшееся человечеству.
В «дурном» сорте надежды философы видят страсть. Но удовлетворение страсти приходит к нам как наслаждение.
Надежда идет рука об руку с удовольствием
Для Томаса Гоббса надежда — это сложная страсть или «удовольствие ума», то есть удовольствие, возникающее не из непосредственных ощущений, а из мышления. Для Гоббса простейшим строительным блоком, лежащим в основе надежды, является аппетит. Добавляем к аппетиту возможность его удовлетворения — и получаем надежду по рецепту Гоббса. А уже полученную путем нехитрого соединения надежду можно комбинировать дальше и получать в итоге уверенность и смелость. Вот такая психологическая алхимия получается по Гоббсу.
Спиноза тоже видит страсть надежды как форму удовольствия. Но в его микстуре надежды сладость радости смешивается с горечью печали из-за неопределенности результата.
Удовольствия связаны с пороком. Получается, надежда не добродетель?
Идет ли надежда рука об руку с добродетелью?
Древние римляне ответили бы на этот вопрос утвердительно без всяких раздумий и повели бы вас за руку в один из многочисленных храмов в честь добродетели надежды Spes. А вот греки покачали бы головой и сказали, что не всё так однозначно. Не забываем, что греческий elpis не нес в себе особых позитивных коннотаций. А если согласиться с тем, что надежда — это страсть, то страсти вообще не могут быть добродетелями по определению.
Аристотель ставил под сомнение добродетельность надежды из-за ее неуловимой природы.
По Аристотелю, чтобы надежда считалась добродетелью, нужно, чтобы она исполняла как минимум два условия. Во-первых, ее должно быть возможно практиковать. Во-вторых, она должна способствовать процветанию. Надежда может быть деструктивной: как она в таком случае может помогать процветанию? А как мы можем практиковать надежду? Это всё равно что практиковать выигрыш в лотерее. Мы не можем заставить себя надеяться или не надеяться. Если у больного раком результаты тестов плохие, его надежда точно не увеличится. Мы не можем контролировать надежду. Получается, это добродетель зависимости, а не добродетель контроля и мастерства, то есть какая-то ложная добродетель.
Человеческая мысль пытается объяснить надежду противоположными явлениями: и страстью, и добродетелью. Это абсолютно нелогично.
Идет ли надежда рука об руку с иррациональным?
Если Кант стремился показать, что наша вера в Бога и надежда на высшее благо возможны в пределах разума, то Кьеркегор, наоборот, стремился подчеркнуть, что надежда должна превосходить всякое понимание. Зачем ее понимать? Ее нужно вкушать как противоядие от отчаяния. И вкушать как можно больше. Кьеркегор восклицал: «Вся жизнь человека должна быть временем надежды!»
Трудно ли надеяться без воображения? Когда надвигаются самые темные времена, без воображения зажечь в сердце надежду сложно.
Идет ли надежда рука об руку с воображением?
Надежда зачастую играет роль утопического двигателя. Ведь она предстает нашему сознанию прежде всего в виде идей воображения, в виде предвосхищения изменений в лучшую сторону. Эрнст Блох считал это воображение особенным. Оно отличается от простого фантазирования, потому что в нем, помимо прочего, звучит призыв к действию.

Что видят в надежде философия и психология сегодня?
В современной философии надежда неизбежна и невозможна одновременно. Если верить Хайдеггеру, то человек всегда направляет свой взор в будущее. Мы его непрестанно пытаемся разглядеть, но не можем его предугадать и контролировать. В итоге рано или поздно в будущем наступает конец: конец жизни, конец империи, конец политического строя. Поэтому надежда — это структурная иллюзия: мы живем в надежде, но в конце концов приходит только конец.
Пока современные философы провозглашают иллюзорность надежды, современные психологи не только изучают ее влияние на психику, но и создают шкалы для ее измерения. Для психологов надежда — просто еще один когнитивный скилл, способ регулирования своего состояния и поведения.
Для Снайдера, создателя одной из таких шкал, надежда состоит как из когнитивных элементов, так и из аффективных. По его словам, существует как минимум три компонента, которые люди могут отнести к надежде, а именно: целенаправленные мысли, стратегии для их достижения и мотивация. Для него надежда — это особый способ планирования и позитивное мышление.
Есть еще альтернативный измеритель надежды: тест HHI (Herth Hope Index). Он основан на определении надежды как многомерной жизненной силы. Эта сила таится в уверенном и в то же время неопределенном ожидании достижения будущего личностно значимого блага. В тесте HHI три измерения: временная составляющая, позитивная готовность и ощущение взаимосвязанности с собой и окружающими (temporality and future, positive readiness and expectancy, and interconnectedness with self and others). Для Херс надежда — это способность справляться с трудностями, например с болезнями.
Надежда — это не всегда что-то ускользающее.
Однажды надежда скомковалась в очень осязаемый объект: искусственный язык эсперанто. Esperanto по-латыни «надеющийся».
Этот язык впитал в себя надежду, что он будет инструментом, позволяющим людям из разных стран общаться на равных и жить в мире. Людей привлекло такое видение мировой гармонии. Эти идеалы продолжали поддерживать эсперанто на протяжении десятилетий, даже когда стало ясно, что он не будет работать так, как думало большинство людей.
Сегодня конструкт надежды скорее покосился. Еще сто лет назад будущее видели как времена, которые окажутся «чище и ярче». Иногда надежда заставляла видеть будущее светло-наивным до милоты: футуристы спекулировали, что уже сегодня человечество научится укрывать от непогоды свои города и будет иметь по холодильнику в каждой комнате своего дома. Но вот надежды на далекое будущее сегодня — это надежды на выживание человечества.
Надежда — тот самый витамин, нехватка которого особенно остро ощущается сегодня. Синтетическая политическая надежда не всегда приносит облегчение. Нужно искать надежду в своем саду среди своей веры, неопределенности, страха, удовольствия и воображения. Может быть, мы ее найдем в виде круглого-круглого яблока. И разделим это яблоко с другим.