Прикосновение к ускользающему хвосту красоты. Беседа бывшего и действующего главредов издательства Individuum
Individuum — книжное издательство, которое занимается «приключенческим нон-фикшном и визионерскими художественными произведениями». За последние пять лет в нем вышли такие книги, как «Слово пацана» Роберта Гараева, «Киноспекуляции» Квентина Тарантино, «Отец шатунов» Эдуарда Лукоянова, «Эзотерическое подполье Британии» Дэвида Кинана, «Тело дрянь» Мары Олтман, последняя книга Эдуарда Лимонова «Старик путешествует» и многие другие — на самые разные темы, от способов борьбы с похмельем и путешествия Laibach в КНДР до историй о русских шифропанках и кинкстерах. Когда «Нож» узнал, что возглавлявший все эти годы издательство Феликс Сандалов передал бразды правления Алексею Киселеву, театральному критику и бывшему руководителю «Мобильного художественного театра», мы попросили первого подвести итоги своей деятельности, второго — сообщить, что ждет издательство в ближайшем будущем, и их обоих — рассказать о том, какое место книги занимают в их жизни, а они — в жизни книг.
Киселев: Начало было положено последним криком чайного гриба перед смертью, потому что это был твой гриб, а убил его я.
Сандалов: Ну как, я его вывел на эшафот, а ты завершил эту процедуру.

(молчат)
Киселев: Давай введем читателей в курс дела: ты ушел из Individuum.
Сандалов: А ты стал главным редактором издательства.
Я не устал, но ухожу. За шесть лет моей работы в Individuum нам удалось разбить лагеря на всех вершинах и предпринять несколько неожиданных вылазок — в жанровую литературу или в детские книги, например. А когда по основным направлениям и темам ты выпустил по пять книг, то невольно задумываешься, насколько имеет смысл наращивать эту полифонию или же пришло время для перезапуска и совсем другого мотива. Не могу сказать, что я закрыл все свои гештальты, что-то и вовсе не удалось воплотить: например, книгу про исчезнувшую в море мировую чемпионку Наталью Молчанову и мир фридайвинга, дающего человеку ни с чем не сравнимый экстаз, в конечном счете меняющий сознание — вот это история! Ну и скажем прямо издавать книги в России стало заметно сложнее, а значит, пришло время концептуальной пересборки и изобретения нового языка. Это лучше делать изнутри, для верности. А я не в России. Так что сейчас мне интереснее разбираться, как устроена книжная жизнь глобальной Не-России. А какова твоя мотивация?


Киселев: Моя мотивация от перемены сфер деятельности не меняется — это мотивация кладоискателя. Когда я был театральным критиком и куратором, меня интересовала именно сумеречная, неисследованная область, как и в театроведении: я сдавал в газету «Ведомости» рецензии на подпольные премьеры вроде «Богадельни» Васи Березина по Ги Дебору в заброшенном ДК, а диссертацию писал про театральные практики русского авангарда. Когда я стал заниматься прогулочным аудиотеатром, та же самая мотивация кладоискателя была в работе с историческим материалом и поиске удивительных пространств для прогулок. В процессе сборки начинает происходить мистика, которая зачастую приводит всех участников процесса к совершенно непредсказуемому результату. Это и есть клад. Так и с книгами — мы уже с тобой запустили несколько, и это оно и есть. Происходит колдунство.
Сандалов: Да, мне кажется, что важная составляющая здесь — это понимание зыбкости устоявшихся представлений. Можно считать, что песня — это куплет и припев, а гитара должна звучать как гитара, что театр — это гардероб и сцена, а артисты в нем должны особенным образом вести себя. Но интересно определять заново, что можно считать таковым, и подрывать стереотипы. Можно ли из большого журналистского расследования сделать текст, который будет читаться как роман? Засунуть туда 25-й кадр? Сделать динамическую обложку? Или трафарет для граффити? Или взять отзыв на книгу у несуществующего человека?
На многие вопросы уже есть ответы, но особенность издательской среды, о которой я не устаю говорить, — это ее консервативность. Все ждут появления трендов и умеют оперативно в них встраиваться, но экспериментов мало.
Хотя есть множество поверий, которые ты можешь опровергнуть только экспериментально, например, что книги с числами на обложках продаются плохо. Или что появление формулы в тексте снижает глубину прочтения вдвое.
Никого снаружи, разумеется, эти причуды не беспокоят — и если книга хорошая, то читателя и двадцать формул не остановят. Но в любой профессии неизбежно оказываешься в таком диалоге и многие положения хочется подтвердить или опровергнуть. Я, к слову, очень рад, что мой диалог был в том числе с тобой, и ты мог оценить какую-нибудь гипотезу или предложить удачный заголовок (так было с книгой «Хватит это терпеть»). Хотя тебя больше знают как театрального продюсера и критика, ты спродюсировал две книги (обе с людьми по имени Федор), написал диссертацию про обэриутов, а теперь и руководишь редакцией. Какое вообще место книги занимают в твоей жизни?
Киселев: Как и все, я что-то писал в детстве. Наверное, это ценный момент в жизни каждого, когда ты пробуешь все подряд. И мне кажется, что эти истории с Федорами и их книгами — они про написание своей собственной книги, которая состоит из книг других авторов. С Федором Елютиным она задумывалась про спектакль Remote Moscow, но вышла не только про него, а гораздо шире, такая книга-спектакль. Тогда я думал, что применяю полученный в журналистике опыт — у меня был свой театральный журнал «Реплика», я работал постоянным критиком в «Афише». Потом мой сын Федор сочинил сказку «Семьдесят енотов и две бабы», а я помог этой сказке превратиться в настоящую книгу. А потом еще и издать вторую часть. Это действительно его книги, но они не состоялись бы, если бы я ему постоянно не напоминал про работу над текстом, не убеждал бы художников dedsklеx и Константина Терентьева, что сроки в нашем деле тоже важны, и не проводил с переводчиками многочасовые созвоны (первую часть мы перевели на 14 языков), разбирая колониальную семантику словосочетания «мистер Собака» и многогранность значения слова «бабы». Работая над книгами обоих Федоров, я делал то, что мне больше всего нравится: находил потенциал в людях. У меня всегда хватает аргументов объяснить, почему те, кто считают, что их творчество не нужно миру, ошибаются.
В участии в творческой реализации много радости. Как и в наблюдении за трансформацией человека.
С «Мобильным художественным театром» — проектом, которым я жил последние пять лет (это приложение с прогулочными аудиоспектаклями), — мы этим же и занимались: ты предлагаешь человеку попробовать то, что он прежде не пробовал — в нашем случае сочинить прогулку в наушниках для одного зрителя — и наполняешь уверенностью, что у него или нее получится. В этом жанре начали пробовать себя самые разные художники — от Джима Джармуша в Нью-Йорке до Rimini Protokoll в Берлине, и Михаил Зыгарь (признан в РФ иноагентом) со своей идеей круглосуточного театра для одного зрителя в приложении оказался буквально первым, формат мы с ним изобретали на ходу. Мы выпустили больше сорока спектаклей, и эти спектакли — тоже своего рода книги. Один из драматургов Мобильного театра, Максим Жегалин, пишет сейчас для Individuum виртуозное жизнеописание сиятельных петербургских бездельников и маргиналов, которых позднее стали называть поэтами и писателями Серебряного века.
Конечно, очень многие идеи растворяются в воздухе, если не поймать момент.
Сандалов: Откуда это наблюдение?
Киселев: Из театра, наверное. Театральные критики, как правило, люди тревожные и нервные, потому что им приходится делиться со всем миром тем, что увидели, в сущности, они одни, плюс еще сотня-другая людей. В основе театральной критики лежит неутолимый голод фиксации того, что и словами-то описать невозможно. В японском театре Но есть такое понятие — югэн, что-то вроде сверхзадачи театра по Станиславскому, чувство, которое должно объединять актеров, музыкантов и зрителей. Его проще передать через примеры: когда видишь птицу на ветке и понимаешь, что через мгновение она взлетит, но пока не взлетела, потому что мгновение не закончилось. Или закатное солнце, которого через минуту уже не будет, но прямо сейчас ты его еще видишь.
Знание, что чего-то не будет, но пока оно есть — это и есть югэн.
Это мое основное чувство последние несколько лет. Не только в работе, а вообще во всем. Особенно с людьми старшего поколения, страшно любимыми, когда я постфактум осознаю, что вот эта встреча оказалась последней. Так было недавно со Львом Семеновичем Рубинштейном. А до того — с Михаилом Юрьевичем Угаровым. Сборник его текстов о театре мы планируем издать. Помню, что ты взял с меня обещание: не больше 10% книг о театре. Но Угарова ты при этом сам предложил!
Сандалов: Не отличаются ли книги от югэн тем, что сохраняют под обложками одно и то же содержание для всех читателей, когда и где бы они их ни открыли?
Киселев: Разницы нет. Для меня это новая мысль: еще полгода назад я был убежден, что разница огромна и заключается она в том, что исполнительское искусство, какое бы оно ни было, апеллирует именно к чувству момента. Как говорил Ежи Гротовский, задача театра — превратить зрителя в свидетеля.
Во время написания книги автор проживает то, что в театре назвали бы жизнью человеческого духа. Многим знакомо это чувство, когда тебе вдруг на мгновение кажется, что ты все понял, когда у тебя образовались некоторые связи, которые, кажется, очень простые и понятные, осталось только сформулировать чуть-чуть — и все в мире будет объяснено. Ты ловишь себя на этом и чувствуешь, что мысль ускользает, и пытаешься ухватить ее. Это и есть процесс написания книги, когда человек вокруг этой мысли, абсолютно священной для него, ходит кругами, а иногда эти круги наворачивает группа людей, образуя хоровод.
В итоге тот, кто взялся писать книгу, в каком-то смысле проходит путь героя — это и есть форма проживания реальности, полноты жизни, как у конголезских танцоров, от которых слетел с катушек Антонен Арто. В книге этот процесс зафиксирован, а дальше начинается чтение, в котором югэн фигачит мама не горюй. Можно провести аналогию с фресками, очень статичным видом искусства, но в нем тоже есть предварительная и невидимая для зрителя работа. Архетипически тут нет разницы с книгой — это такое же прикосновение к ускользающему хвосту истины или красоты, к чему-то большему.
Сандалов: Я вижу профессию издателя как нечто среднее между продюсером и мастеринг-режиссером: небольшие изменения в тональности перевода, в подборе типографики, в названии и обложке могут заметно изменить восприятие книги, а если уж ты редактируешь, то это прямое влияние на микс как таковой. Желательно, чтобы у автора, как и у музыканта, было чувство ритма, а если есть свой язык, то просто супер. Большим подспорьем служат умение работать с вниманием публики и представление об аранжировке — как о каркасе, на котором будет держаться текст. Если с этим плохо, но есть уникальный опыт или захватывающая сверхидея, тогда ты уже отвечаешь за то, как это смонтировать так, чтобы оно качало и все части целого обрели дополнительный смысл.
Попутно, конечно, проверяя сказанное на соответствие действительности и то, насколько рассказ закрывает все возникающие к нему вопросы.
В такой работе больше азарта, чем с переводами. Когда с твоей помощью появляется книга, которой иначе бы не было ни на каком языке — это совсем по-другому переживается. Но многое из того, что делается — это мастеринг, где можно схитрить, пользуясь облегчающей работу техникой (дизайн-сериями, жесткими макетами) или буквально плагинами для всего, начиная от верстки до дизайна обложки. В процессе ты перечитываешь части или уже целое произведение, чтобы понять, что еще стоит поправить перед релизом.
Киселев: С самостоятельным продюсированием понятно, а каким путем к тебе попадали кандидаты на перевод?
Сандалов: За каждой выпущенной переводной книгой стоит десяток похожих на нее, но не подошедших по какой-то причине: слишком «иностранные», скучные или просто дурно написанные. Тем и историй все-таки меньше, чем публикуемых книг, так что есть из чего выбрать. Просеивание каталогов — быстрый способ получить срез ежегодно выпускаемых четырех миллионов изданий. И заодно насмотреться на разный запредельный треш! Полезная практика, расширяющая границы представлений о том, что дозволено. Но плохих книг, в сущности, не бывает — как говорил рэпер Gone.Fludd, «даже если книга тебя ничему не учит, ты хотя бы видишь, как слова правильно пишутся». Для издателя и подавно: какой бы странной ни была подача, она все равно может навести на определенные мысли.

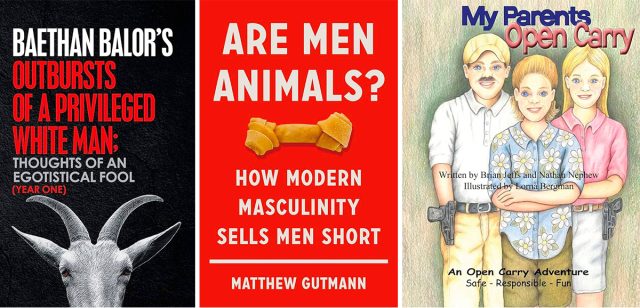

Многие книги мы выпустили благодаря интуиции редакторов и продюсеров — у тех, кто прошел через Individuum, цепкая хватка на хиты. О чем-то узнаешь из рецензий критиков, хотя к моменту их похвалы часто бывает уже поздно покупать права. За другими авторами начинаешь следить еще до того, как они берутся за крупную форму. Что-то приносят переводчики: так было, например, с книгой про ЧВК Попски, которую нам предложил издать мореплаватель Николай Конашенок, горевший этим плутовским экшном, который выходит за рамки наших представлений о Второй мировой. Он так горячо рассказывал про рассекающие по пустыне джипы и банду непокорных вояк, бесстрашно останавливающих отряды Гитлера, что нельзя было не проникнуться его жаром. Что-то, хоть и очень редко, приходит самотеком — так, например, нам написал Рустам Александер по поводу «Закрытых».
Но для этого надо жить долго — КПД открытой редакционной почты редко у кого превышает 10.000 к 1.
Но вообще — откуда только не приходят книги! Например, «Философию, порно и котики» Стои я нашел в виш-листе одной ее коллеги, а «Папу диктатора» встретил в книжном магазине. Тут нет других рецептов, кроме как держать ухо востро.
Возвращаясь к диссертации про обэриутов, чем они тебя заинтересовали?
Киселев: Лучше ты скажи про обэриутов и этот пласт русского авангарда. Помнишь ли ты свои первые чувства от знакомства с текстами Хармса или Введенского? Думаю, твой ответ может оказаться таким же, каким был бы мой.
Сандалов: Да как и у многих: ты проваливаешься в лабиринт культуры, в детстве тебе попадается «Маленький Мук» в переводе или даже в прочтении Введенского, потом ты где-то читаешь «Бобэоби пелись губы», чуть постарше уже слышишь их в исполнении «Аукцыона», затем начинаешь высматривать на развалах рядом с музеем Маяковского потертые советские издания. В нулевые этот колоссальный мир прошлого, который можно маркировать условно как авангард, был настоящей отдушиной. Со стороны кажется, что культурная жизнь Москвы сейчас вернулась в те времена: те же концерты Игоря Саруханова, показы фильма «Амели», подпольные вечеринки и театр на Малой Бронной. Только стало больше стендапа. Но вот и сейчас, и тогда можно сходить на Филонова и отдохнуть душой, ведь если ты живешь в России, то тебе хотя бы в том сказочно повезло, что ты можешь увидеть колоссальное количество Гончаровой, Лисицкого, Малевича и так далее. А это все, в свою очередь, отсылает к Бурлюкам, Маяковскому, Введенскому и другим.
Это одно из самых безблядских времяпрепровождений. Футуристы, супрематисты и их современники очень глубоко прорыли.
И приписываемый им абсурдизм — никакой не абсурдизм, а очень точное и достоверное отображение их реальности. Как пережить 1900–1924 и не сойти с ума? Как пережить 1937–1952? Особенно в Петербурге-Ленинграде — его одного в целом достаточно для того, чтобы сойти с ума дважды. Я отношу их — а также Белого, Сологуба и других самых разных писателей начала ХХ века — к категории русских походов в тонкие миры и всегда старался не упускать из виду. Таких сильных и смелых в своих идеях авторов до нас дошло мало.
Киселев: Интересен этот путь текстов через запреты и уничтожения, через невидимых героев, эти тексты спасающих. Не осмелься ленинградский философ Яков Друскин во время блокады Ленинграда пойти по оставленным квартирам своих друзей Хармса и Введенского в поисках оставшихся рукописей, мир бы не узнал про таких крупных поэтов-экспериментаторов, писавших вещи, не похожие вообще ни на что, и остались бы в истории они как странноватые детские поэты. Они писали тексты в стол, то есть как будто в будущее.
Опубликованные в постсоветской России, эти тексты всех ошеломили и стали частью культурного кода уже 90-х. Я тогда впервые учился коммуникации, ходил в детский сад и на концерты «Аукцыона» вместе с родителями, и хорошо помню стоявший на полке двухтомник Хармса в черной затертой суперобложке. Этот код вшит в меня. Обэриуты стали для меня иероглифом, через трафарет которого я могу разглядывать мир вокруг себя: людей, пространства, объекты, и так я вижу, что совпадает со мной в большей степени, а что в меньшей.
Сандалов: Похожая история сложилась со Смирновым фон Раухом — полвека никто не знал, что у него есть роман-детектив «Доска Дионисия». Он писал под псевдонимом без особых надежд на публикацию — отправил в несколько издательств рукопись, получил отказы и вот книга пролежала все это время, а сейчас благодаря помощи семьи и хранителя архива Алексея Глебовича мы ее выпустили. Если задуматься о том, что чудеса случаются и выпавшие в прошлом веке зубы можно вставить обратно, какую книгу ты бы больше всего хотел увидеть напечатанной?
Киселев: Роман Введенского «Убийцы вы дураки» (без запятой). Он то ли был сожжен при обысках, то ли потерялся в блокаду. Это книга, которую я больше всего хотел бы прочитать.
Сам Введенский говорил про свой роман, что он единственный правильно написанный в истории мировой литературы, и добавлял: «но написан он плохо».
У меня однажды случилось что-то вроде научного открытия — так громко я называю свое абсолютно микроскопическое продвижение по академическому пути. После ночи над книгами, уже на рассвете, один в комнате, я встал и принялся торжественно себе аплодировать. Вот что за открытие.
Я искал в романе Константина Вагинова «Труды и дни Свистонова» интересовавший меня эпизод с деталями описания театрализованного вечера обэриутов — там интересно про клоунские парики и трехколесный велосипед. Но нашел я еще и упоминание о романе Введенского, никем прежде не замеченное. Вагинов описывает будничную жизнь двадцатых годов в Ленинграде и у каждого из персонажей есть прототип; обэриуты там тоже есть. Хармса зовут «Голос в серой кепке», Заболоцкого «Голос в очках», а третьего зовут «Голос в синей», и методом исключения в нем определяется Введенский. И вот этот «Голос в синей» между делом говорит, что задумал писать роман — «книгу смертей, которая будет посвящена Пушкину, Лермонтову, Есенину и другим». (аплодирует)
Сандалов: Думаю, воскрешение текстов неизбежно. Литературный канон уже сложно изменить присоединением к нему новых имен: вся история на ладони, это мешает изобретать новое. Так что либо сперва закат вручную, то есть новые темные века, либо сверхтехнологическая реставрация утраченных стихотворений Сапфо, средневековых трактатов или вот чудесные обретения романов обэриутов.
Киселев: Да, согласен. Советскую и дореволюционную эпоху еще предстоит просветить рентгеновским излучением и найти прежде не высвеченные по разным историческим причинам тексты. Уверен, там найдется что-то, что совершенно не укладывается в наше представление об этом времени.
Но на первом этапе я вижу свою роль в Individuum как диспетчера поездов, следящего за тем, чтобы они вовремя отправлялись и приезжали, как минимум не врезаясь друг в друга. И я не единственный, слава богу, кто составляет их расписание. Рука об руку работает несколько человек в редакции и у каждого свой бэкграунд. Редакционная политика формируется в бурлении коллективного ума.
Сандалов: Ты рассказывал как-то, что узнал о том, что у свитеров и курток есть разные размеры, когда устроился работать продавцом в магазин одежды. Сейчас, устроившись работать в книжное издательство, ты совершил какое-то открытие?
Киселев: Да, действительно, это произошло, когда я работал продавцом-консультантом в магазине мужской одежды в первый год после окончания ГИТИСа. До этого, выучив главный урок Черкизовского рынка, я думал так: если одежда не мала, значит она как раз. Когда в магазине одежды мне рассказали про размеры, я стал разбирать дома свои вещи и понял, что у меня вообще нет одежды моего размера. Друзья и подруги ни слова мне не говорили, видимо, полагая, что я дико угараю по оверсайзу. И я сначала подумал, что S — это small, но L меньше, чем S, потому что L — это little, а XL это то ли бывший маленький, то ли совсем маленький.
Поскольку ХМ нигде не было, я решил, что М — мужской. Мужской размер. Он оказался мне как раз.
Я впервые оделся в одежду по размеру, и это было очень сильное ощущение, я его до сих пор помню. Двойственное. С одной стороны, как будто ты был неправильный, а стал правильный. С другой, ты был такой, какой ты был, а тут тебя взяли и стандартизировали. Книгу про силу вещей мы, кстати, тоже уже готовим, пока без подробностей.
Что до открытий в издательском деле, то я не догадывался, например, что существуют скауты, к которым стекается информация про книги до их выхода, и они работают как информагентства, сигнализируя о том, что Квентин Тарантино пять минут назад задумал написать новую книгу. Пример основан на реальных событиях, весной поделимся подробностями! Задумал книгу, а значит, на следующий день этому человеку прилетят несколько десятков предложений со всего света о переводе, об экранизации этой книги, мерче, сиквеле, мультсериале и компьютерной игре — и важно оказаться в этом списке поближе к его началу. Открытие того, насколько бесконечно огромен издательский мир, — вот что меня поразило.
Сандалов: Есть что-то схожее с твоей работой в МХТ?
Киселев: Темп. В Мобильном театре мы выпускали по спектаклю в месяц, а это ведь еще озвучка, музыка, всякие технологические вещи. Как и здесь, никаких пауз в производстве невозможно, наоборот, по пять спектаклей на разных стадиях могли создаваться одновременно: выпускаем один, в работе еще три, а еще для одного уже готов синопсис. Тут я попал в тот же самый процесс, только обсуждаем мы синопсисы не мобильных спектаклей, а книг.
Книг при этом написано такое нереальное количество, что уже вполне достаточно. Давайте внимательно прочитаем написанное и уж тогда решим, нужно ли что-то еще писать. Зачем нужны новые книги?
Сандалов: Чтобы старым не было одиноко. А ты как думаешь?
Киселев: Книга — это то, что читает человек, а не то, что написано. И поскольку человек меняется и меняется окружающий его мир, книга со временем тоже становится другой. В этом смысле все объекты теряют свою первоначальную актуальность и обретают смысл исторический, смысл документа эпохи и артефакта. Контакт между автором и современным ему читателем мутирует со временем в нечто иное — в контакт читателя со своим представлением об авторе и давно ушедшей эпохи. То есть чтение старой книги — это совершенно особый процесс. Так было со сборником репортажей Нелли Блай, одной из первых журналисток, писавшей еще в XIX веке, так скоро будет с «Книгой о граде женском» Кристины Пизанской, датируемой 1405 годом. Эти тексты, вброшенные в современный контекст, наполняются новой силой и значением. Таким образом мы можем напомнить, что вопрос о праве человека на равенство, на собственную субъектность поднимался на протяжении веков — и что он звучит все так же веско.
А у тебя как складывались отношения с книгами?
Сандалов: Я всегда много читал, это мой любимый досуг с детства наряду с прослушиванием музыки. Лет с двадцати я стал придумывать себе разные практики чтения: например, сняв как-то раз комнату в бывшей генеральской квартире, я взял за правило читать хозяйские книги. Так я прочитал такие забытые сегодня советские хиты, как «Неуловимый монитор», «Жизнь и приключения заморыша» и глубоко потрясшую меня брошюру, рассказывающую о том, что нужно делать, если вы оказались в зоне поражения ядерного оружия.
Потом, когда я писал «Формейшен», у меня был период чтения «вслед за героями» — на протяжении двух лет я последовательно читал все книги, которые упоминал в песнях, интервью или своих зинах Борис Усов, лидер «Соломенных Енотов». Учитывая количество отсылок в его творчестве, читать приходилось быстро и помногу, но это помогло гораздо лучше понять устройство его мира.
Был и такой эксперимент — десять лет назад, когда я работал в «Афише», я вызвался собрать номер про лучшие книги XXI века (от века тогда прошло всего 14 лет, но когда это останавливало культурных журналистов, вооруженных словами «главный», «лучший» и «важный»). Номер мы сдали в печать, а спустя какое-то время, когда журнал пал жертвой «Рамблера», у меня образовалось достаточно свободного времени, чтобы прочитать все сто книг, которые попали в наш список. Это была лучшая прививка от спискомании, которую можно себе представить — а заодно и от злоупотребления категориями «важный», «главный» и так далее.
Это жуткая напасть, что-то вроде кордицепса, который молниеносно пожирает все осмысленное и самостоятельное, заставляя дергаться оставшийся каркас в такт поступающих сигналов из новостной повестки.
Мне нужно было много лет, чтобы отучиться думать в этих категориях. Последние годы я практикую беспорядочное чтение, потому что работа главного редактора подразумевает постоянный разбор каталогов, заявок и рукописей.
Очень приятно ловить себя на мысли, что все происходит единственно возможным образом — то есть, что все правильно. Наша с тобой предыстория с неоднократным обменом телами как будто предопределила твой приход в Individuum. Всем рекомендую эту практику: она помогает понять, насколько мы состоим из других людей, их влияний, мнений, вкладов. Я уже сам забыл, с чего все начиналось, ты помнишь?
Киселев: Я помню, что наши совместные статьи в «Афише» сначала подписывались двумя фамилиями. Так появился цикл «Пингвины пера». Потом был передвижной лекторий Музея новых аналогий, который мы учредили постфактум, и с лекциями, построенными на обмене телами, мы прокатились по России очень неплохо. В Омском театре чуть до драки не дошло. С тех пор ты читал лекции под моим именем в Электротеатре Станиславский, давал вместо меня интервью и делал разбор какой-то шекспировской пьесы для театра «Практика», а я вместо тебя. Отдельно смешно, что меня подписывали «Феликс Сандалов, поэт».


Сандалов: Еще на фестивале «Форма» я рассказывал про собранную мной программу так, как если бы ее собрал ты.
Киселев: А на лекции на фестивале «Боль» я за тебя говорил про феномен ускоренного восприятия и церковь из костей. Или это был ты. Ну да Бог с ним. А какой был вопрос?
Сандалов: Как проходит обмен телами для тебя?
Киселев: Знакомясь с редакцией, я попытался притвориться тобой. Надеюсь, никто не заметил изменений. Если говорить серьезно, то прошлой осенью я стал ходить к психологу — просто из интереса, и мне это очень нравится. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что не знаю, где во всем, что меня составляет, собственно я. Зато точно знаю, что все, что я по привычке собой считал, мной не является. Я в процессе самообнаружения. И, думаю, этот процесс может быть полезен издательству, поскольку те авторы, с которыми мы работаем, каждый из них по-своему, ведут аналогичный поиск, который затрагивает и читателей. Мы движемся в незнании и кротовьей слепоте куда-то в сторону света, на ощупь продвигаясь в поисках самих себя.
