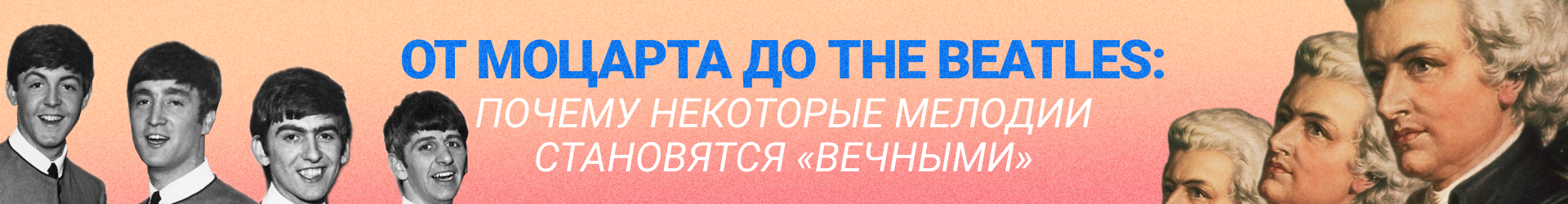Между сном и явью. О чем писал Кафка в своих дневниках
Если вы знаете о Франце Кафке хотя бы что-нибудь, то, скорее всего, знаете, что незадолго до своей ранней смерти он завещал сжечь свои произведения, в том числе недописанные романы «Процесс» и «Замок». После смерти писателя они приобрели статус классических, причем тот факт, что они так и не были завершены, не помешал этому, скорее наоборот. Застой, стагнация, отсутствие прогресса, иллюзия движения — вот главные темы, которые волновали Кафку как писателя, долгие годы жаловавшегося в своих дневниках на то, что его усилия в литературе, любви и многом другом не дают никаких плодов. Поэтому история без особого развития и без какого-либо финала стала весьма подходящей формой для выражения его мироощущения и направления мысли. Росс Бенджамин — о том, как развиваются в дневниках Кафки мысли, позже легшие в основу его произведений, и почему собственное бессилие стало для него источником вдохновения.
9 октября 1911 года Франц Кафка, которому тогда было 28 лет, записал в своем дневнике, что вряд ли доживет до сорока лет. На тот момент он еще не был болен туберкулезом, из-за которого умер в 1924 году, незадолго до своего 41-го дня рождения. Почему он стал сомневаться в собственном долголетии уже тогда, сказать трудно. Но вполне возможно, что именно эта неуверенность в завтрашнем дне послужила своего рода топливом для его эстетического воображения:
«До сорока я вряд ли доживу, об этом свидетельствует, например, ощущение, будто в левой половине черепа у меня набухает что-то, на ощупь напоминающее внутреннюю проказу, и, когда я отвлекаюсь от неприятностей и хочу только наблюдать это ощущение, оно напоминает поперечный разрез черепа в школьных учебниках или почти не причиняющее боли вскрытие живого тела, где нож, чуть холодя, осторожно, часто останавливаясь, возвращаясь, иной раз застывая на месте, продолжает отделять тончайшие слои ткани совсем близко от функционирующих участков мозга».
Здесь и далее — перевод Е.А. Кацевой
В своих дневниках, которые Кафка вел с 1909-го по 1923 год, он часто описывал физические недуги и причиняемые ими страдания. Через эти записи мы видим, как писатель превращал беспощадный самоанализ и свои мучительные страсти в благодатный источник творчества. В образе ножа, пронзающего и кромсающего человеческую плоть, а также через описания удовольствий, которые дарует ласкающее кожу лезвие, Кафка смог найти выражение своей специфической чувственности.
Впоследствии писатель использовал эти тропы иначе. Оторванные от своей первоначальной ассоциации со страданием от «внутренней проказы», они стали компонентами кафкианской поэтики телесности. В письме к своей будущей невесте Фелиции Бауэр в феврале 1913 года Кафка подчеркивал, что испытывает извращенное удовлетворение, представляя, как его режут ножом:
«Вот каким фантазиям я предаюсь, когда лежу в постели без сна: я хочу быть грубым куском дерева, который прижимает к своему телу повариха, когда обеими руками тянет нож к себе вдоль этого жесткого куска дерева (то есть где-то в районе моего бедра) и изо всех сил срезает стружку, чтобы разжечь огонь».
В письме своему близкому другу Максу Броду, написанном в апреле 1913 года, «кормление» пламени превратилось в кормление собаки:
«Мои фантазии о том, как я лежу, растянувшись на полу, нарезанный ломтиками, словно жаркое, и медленно протягиваю рукой один из кусков мяса собаке в углу — подобные фантазии являются каждодневной пищей моего разума».
Месяц спустя Кафка записал в дневнике еще один вариант этого видения:
«Постоянно возникает образ широкого мясницкого ножа, который в величайшей спешке и с механической регулярностью вонзается в мое тело сбоку и отрезает очень тонкие ломти, которые при быстрой работе отлетают почти свернутыми».
В этой записи Кафка предвосхищает устройство для пыток, которое буквально вписывает проступок осужденного в его тело, из рассказа «В исправительной колонии». (Более поздний отрывок из дневников, предназначавшийся для этого рассказа, но в конечном счете не включенный в него, также перекликается с его записью 1911 года о головной боли, напоминающей нож в черепе: «И даже если все было без изменений, острие по-прежнему было там, криво торчало из его разбитого лба».) А «широкий мясницкий нож» мог принадлежать к тому же набору, что и «длинный тонкий обоюдоострый мясницкий нож», который в незаконченном романе Кафки «Процесс» вонзается в сердце главного героя и поворачивается дважды.

Мог ли этот нож быть тем самым ножом, о котором Кафка упомянул в дневниковой записи от ноября 1911 года: «Сегодня утром впервые за долгое время я снова испытал удовольствие, представляя, как нож вонзается в мое сердце»? Или в записи от сентября 1915 года:
«Кажется, самое подходящее место для того, чтобы вонзить нож, — между шеей и подбородком. Поднимаешь подбородок и вонзаешь нож в напряженные мышцы. Но это только кажется, будто оно самое подходящее. Надеешься увидеть, как великолепно хлынет кровь и порвется сплетение сухожилий и сочленений, как в ножке жареной индейки».
Универсальность, с которой Кафка адаптировал этот образ ко все новым ситуациям и обстоятельствам, также отражается в письме к Милене Есенской от сентября 1920 года: «Любовь — то, что ты для меня нож, которым я копаюсь в себе».
Если мы проследим, как Кафка переосмыслял этот мотив (который постоянно появлялся в разных контекстах то в записных книжках, то в письмах, то в художественной литературе), то поймем, как его постоянные попытки изобразить свою «похожую на сон внутреннюю жизнь» влияли на способы письма. Похоже, что для Кафки прикосновение пера к бумаге всегда было поводом развивать свою главную литературную фантазию.
Дневники Кафки показывают, как из своих тревог, сомнений и самоистязаний он извлекал возможности для творчества. Кафка описывал повседневные переживания, наблюдения и сны, составляя автобиографические заметки и планы будущих работ, записывая случайные мысли и впечатления, отрывки из прочитанных книг. Непрерывная переработка текстов, бесконечные фальстарты и блуждания в потемках, орфографические ошибки, описки, редкая и неконвенциональная пунктуация, запутанный синтаксис и другие стилистические особенности — все это говорит о некоторой поспешности, спонтанности и неугомонной тяге к эксперименту, с которыми Кафка брался за перо.
Среди этого беспорядка разрозненных обрывков порой встречаются целые произведения, например, наброски рассказов «Приговор» и «Кочегар». Созданию этих произведений предшествовавшие множественные неудачные попытки, и все они были вдохновлены непреодолимым стремлением писателя придать художественную форму всему, что он запечатлевал на страницах записных книжек. Шероховатости и другие приметы дневниковых записей будут отредактированы только впоследствии. Еще не отшлифованные, еще только на стадии обратки в писательской «мастерской», они явным образом принадлежат той нестабильности, в которой они появились на свет.
Из внутренней борьбы и жизненных забот Кафка создал свой неповторимый литературный голос. Например, в записи от 1911 года Кафка боролся с присущей ему нерешительностью в отношении женитьбы и семейной жизни, перечисляя беды холостяка, среди которых есть необходимость «дивиться на чужих детей и не сметь беспрестанно повторять: у меня их нет, ибо семья из одного человека не растет, испытывать чувство неизменности своего возраста, своим внешним видом и поведением равняться на одного или двух холостяков из воспоминаний своей юности». Этот текст он позже переработал и опубликовал под названием «Несчастье холостяка».
Кафка постоянно сравнивал холостяцкую жизнь с застоем. В возрасте 28 лет он записал в своем дневнике:
«Несчастен человек, у которого никогда не будет ребенка, и ужасно ограничен в своем несчастье. У него больше нет надежды на обновление, на помощь счастливой звезды».
Запись, которую он написал десять лет спустя, после трех неудачных помолвок, свидетельствовала о том, как мало изменились его чувства:
«Бесконечное, глубокое, теплое, спасительное счастье — сидеть возле колыбели своего ребенка, напротив матери.
Здесь есть что-то и от чувства: теперь дело не в тебе, а ты только того и хочешь. Другое чувство у бездетного: все время дело в тебе, хочешь ты того или нет, в каждое мгновение, до самого конца, в каждое разрывающее нервы мгновение, все время дело в тебе, и все безрезультатно. Сизиф был холостяком».
И все же, несмотря на все свое недовольство холостяцкой жизнью, Кафка, как правило, испытывал тоску и страх, когда сталкивался с перспективой женитьбы.
Незадолго до своей первой помолвки он записал в дневнике диалог, в котором сравнивал возможность стать мужем и отцом с возможностью оставить работу в Институте страхования рабочих от несчастных случаев, уехать из Праги и полностью посвятить себя литературе — формой существования, которую он считал несовместимой с семейной жизнью.
Неспособность Кафки сделать решительный выбор в пользу одного из двух вариантов привела его к болезненной двойственности. Днем страховой агент, ночью страдающий бессонницей исследователь пограничного пространства между сном и явью, он отказывался улаживать конфликт между двумя этими ипостасями. Кафка драматизировал эту дилемму в письме начальнику (приведенному в записи от 19 февраля 1911 года), где он оправдывался за свое отсутствие на рабочем месте:
«Когда я сегодня хотел подняться с постели, я свалился как подкошенный. Причина этого очень проста: я крайне переутомился. Не из-за службы, а из-за другой моей работы. Служба неповинно участвует в этом лишь постольку, поскольку я, не будь надобности ходить туда, мог бы спокойно жить для своей работы и не тратить там ежедневно эти шесть часов, которые особенно мучительны для меня в пятницу и субботу, потому что я полон моими писаниями, — так мучительны, что Вы себе представить не можете. В конечном счете — я знаю — это пустая болтовня, виноват только я, служба предъявляет ко мне лишь самые простые и справедливые требования. Но для меня это страшная двойная жизнь, исход из которой, вероятно, один — безумие».
Кафка занимался творчеством после окончания рабочего дня, во время которого он составлял юридические документы и классификации промышленных предприятий на основе риска несчастных случаев. В дневниковой записи за октябрь 1911 года он использовал мотив самоистязания, чтобы описать, как он старается подобрать слово для бюрократического отчета, который он диктовал машинистке:
«Наконец я нашел слово „заклеймить“ и соответствующую ему фразу, но держал все это во рту с чувством отвращения и стыда, словно это был кусок сырого мяса, вырезанного из меня мяса (такого напряжения мне это стоило). Наконец я выговорил фразу, но осталось ощущение великого ужаса, что все во мне готово к писательской работе и работа такая была бы для меня божественным исходом и истинным воскрешением, а между тем я вынужден ради какого-то жалкого документа здесь, в канцелярии, вырывать у способного на такое счастье организма кусок его мяса».
Испытывая отвращение ко всем занятиям, не связанным с литературой, поскольку его «силы во всей их полноте были настолько малы, что, только собранные воедино, могли частично послужить писательскому делу», Кафка постоянно сталкивался с тяжелой необходимостью распределять свои скудные запасы умственной и физической энергии, чтобы что-то написать.
В дневниковой записи, сделанной в ноябре 1911 года, он представил, как его жизненная сила слишко слабо распределяется по его длинному, хрупкому телу:
«Бесспорно, что главным препятствием к успеху является мое физическое состояние. С таким телом ничего не добьешься. Я должен буду свыкнуться с его постоянной несостоятельностью. Последние ночи, полные кошмарных сновидений, но длящегося лишь минуты сна, меня сегодня утром настолько выбили из колеи, что, кроме лба своего, я ничего не ощущал, мое нынешнее состояние настолько далеко от хоть сколько-нибудь выносимого, что из одной лишь готовности к смерти я охотно свернулся бы в клубок с деловыми бумагами в руках на цементном полу коридора. Мое тело слишком длинно и слабо, в нем нет ни капли жира для создания благословенного тепла, для сохранения внутреннего огня, нет жира, которым мог бы иной раз подкрепиться измотанный потребностями дня дух, не причиняя вреда целому. Как может это слабое сердце, так часто болевшее в последнее время, гнать кровь через всю длину этих ног. Только до колен — и то ему хватило бы работы, а в холодные голени кровь толкается уже только со старческой силой. Но вот она уже опять необходима наверху, ее ждешь, в то время как она растрачивается попусту внизу. Из-за длины тела все растянуто. Что уже оно может сделать, это тело, если, будь оно даже и более плотно сбито, в нем слишком мало сил для того, чего я хочу достичь».
Кафка воспринимал свое тело как лишенное энергии, болезненное, непоправимо ущербное, и это было неотделимо от его склонности к самобичеванию и отчаянию из-за того, что он не добился «прогресса» в писательстве и своей жизни в целом.
Застопорившийся прогресс был характерной темой для творчества Кафки, в особенности — его незаконченных романов «Процесс» и «Замок». В этих произведениях упорно борющиеся, вечно загнанные в угол главные герои на каждом шагу сталкиваются с непредвиденными неудачами, попутно обнаруживая, что их желания и замыслы рушатся, их надежды сводятся на нет непреодолимыми препятствиями, а их цели в принципе недостижимы. В конечно итоге становится понятно, что все их целенаправленные действия — это лишь форма тщетного ожидания и паралича.
Дневники Кафки наполнены описаниями движения и остановки, начиная с самой первой записи: «Зрители застывают, когда проезжает поезд». Это высказывание напоминает парадоксы древнегреческого философа Зенона, к которому Кафка обращался в декабре 1910 года:
«Зенон ответил на насущный вопрос о том, действительно ли ничто никогда не покоится: да, летящая стрела покоится».
Зенон утверждал, что, когда стрела со свистом рассекает воздух, она каждое мгновение находится в состоянии покоя, какое бы положение она ни занимала, а значит, движение и изменение в принципе иллюзорны и невозможны. В начале 1922 года, когда Кафка начал работу над «Замком», он записал в своем дневнике:
«Жизнь моя до сих пор была маршем на месте, в лучшем случае развивалась подобно тому, как развивается дырявый, обреченный зуб. С моей стороны не было ни малейшей хоть как-то оправдавшей себя попытки направить свою жизнь. Как и всякому другому человеку, мне как будто был дан центр окружности, и я, как всякий другой человек, должен был взять направление по центральному радиусу и потом описать прекрасную окружность. Вместо этого я все время брал разбег к радиусу и все время сразу же останавливался. (Примеры: рояль, скрипка, языки, германистика, антисионизм, сионизм, древнееврейский, садоводство, столярничанье, литература, попытки жениться, собственная квартира.) Середина воображаемого круга вся покрыта начинающимися радиусами, там нет больше места для новой попытки, „нет места“ означает: возраст, слабость нервов; „никакой попытки больше“ означает: конец. Если же я когда-нибудь проходил по радиусу немножко дальше, чем обычно, например при изучении права или при помолвках, все оказывалось ровно настолько хуже, а не лучше, чем обычно».
Оглядываясь на свою жизнь в возрасте 38 лет, то есть через несколько лет после того, как ему поставили диагноз «туберкулез», и всего за несколько лет до кончины, Кафка увидел в прожитом опыте лишь «марш на месте». Похоже, он нашел подтверждение тому, о чем давно подозревал и что настойчиво подчеркивал в дневниках: Зенон был прав.
Кафка постоянно возвращался к описанию своего двойственного положения. Это наводит на мысль, что на протяжении всего своего писательского пути он не хотел искать решения этой проблемы. Скорее, ему было интересно изучать последствия и нюансы своей ситуации с новых, неожиданных сторон — как будто его воображение, попадая в тупик, развивалось сразу во многих направлениях. Вместо того, чтобы искать выход из своего двусмысленного положения, он превратил его в основу своего искусства. Неистовая изобретательность Кафки дала целым поколениям читателей намного больше, чем любое обещание облегчения или утешения, чем любая решительность или завершенность. Его творчество потрясает нас, удивляет, приводит в замешательство, сбивает с толку. Оно дает нам возможность смеяться над нашими страданиями, нашей отчужденностью, нашей иррациональностью и в то же время делает нас еще более беспомощными перед всем этим. Иными словами, благодаря книгам Кафки мы чувствуем себя незащищенными, но живыми.