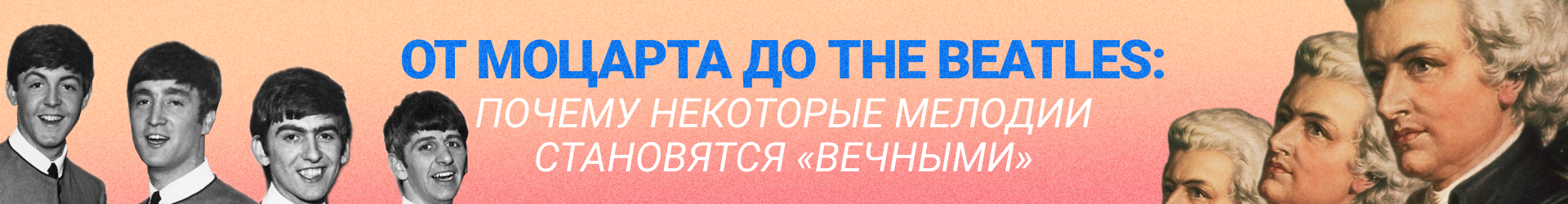Одевая вселенную: почему ученым трудно нам объяснить, что такое изменение климата
Рассказывать о науке и так непросто, а когда от твоего рассказа зависит ни много ни мало судьба всего живого на Земле, подбирать слова приходится особенно осторожно. Это знают все ученые, вступающие в диалог об изменении климата с политиками, экономистами, общественными деятелями, журналистами и широкой публикой. В эпоху, когда экосистемы Земли напрямую зависят от нашего следующего шага, человечество не может позволить себе провалить коммуникацию. О том, как журналисты, политики и сами ученые доносят до нас знания о климате и какие языковые барьеры стоят между научными данными и массовым читателем, рассказывает журналист Анна Ефремова.
Научное знание часто бывает зашифровано в определенной языковой форме, недоступной широкой публике. При этом некоторые «научные» темы (клонирование, ядерные отходы или защита окружающей среды) так и просятся в общественное пространство: они ставят нас перед моральным выбором, требуют срочных действий и вообще ближе к телу, чем какие-нибудь черные дыры. Но полноценная гражданская дискуссия требует от общества высокого уровня научной грамотности, а от тех, кто выносит научные данные на обсуждение, — доступного языка. Но как упростить форму, не упростив содержания? В таких неотложных и одновременно деликатных вопросах, как изменение климата, выбор слов оказывается едва ли не главной заботой ученых, а вслед за ними — политиков, общественных деятелей, журналистов и лидеров мнений. Ведь из чисто лингвистического их высказывание может легко стать социальным, а то и политическим.
В современной лингвистике есть целая ветвь, которая изучает обоюдную связь языка и окружающей среды, — эколингвистика.
Среди прочего эколингвистика описывает экологический дискурс и его нарративы, а также то, как бытовые метафоры о природе («мать-природа», «надругаться над природой») подсказывают нам определенные образы и влияют на наше восприятие себя и своей причастности к происходящему на планете.
Писательница и сторонница философии постгуманизма Рози Брайдотти, например, считает, что нынешняя система взглядов человека на природу как на нечто неподвластное ему и потому чуждое безнадежно устарела: австралийские пожары и ураган «Катрина» — это не только «природные катаклизмы», но и результат безрассудной деятельности человека. Сколько бы внимания мы ни привлекали к «экологическим катастрофам», самим этим названием мы продолжаем подчеркивать сложившийся в общественном сознании разрыв между природой и культурой. Если мы хотим сойти с проторенной тропы, начать стоит с пересмотра лексикона.

Рождение концепций: геологическая эпоха имени человека
Первый и самый мощный инструмент языка — называние предметов окружающего мира. Прежде чем решить экологическую проблему и даже прежде чем ее сформулировать, придется раздать имена всем ее составляющим. Иногда для этого требуется обновить набор концепций, представленных в языке, за счет новых терминов: мы вылавливаем их из роя витающих в воздухе идей и облекаем в слова. Так мы укрепляем наши семантические отношения с реальностью или, по выражению историка науки Джона Норта, «одеваем вселенную». Рождение термина позволяет нам, наконец, задуматься о том, что за ним стоит.
Возьмем термин «антропоцен», с 2000 года набирающий популярность в научной среде. Он был придуман биологом Юджином Стормером, чтобы закрыть потребность в названии новой геологической эпохи, главная роль в которой отведена человеку. По мнению многих климатологов, археологов, геологов и философов, на смену «голоцену» пора было ввести новый термин, который подчеркнул бы беспрецедентное влияние Homo Sapiens на экосистему Земли: спровоцированные им накопление парниковых газов в атмосфере и сокращение биоразнообразия. Потребность назрела — и посыпались варианты: «антропозой», «антропоген», «ноосфера», «техносфера», «капиталоцен» и даже «плантациоцен» (как попытка привлечь внимание к агрессивному типу земледелия, который предопределяет современную экономику, экологию, общественные отношения и даже здоровье людей).
И всё же древнегреческий корень ἄνθρωπος («человек») лучше других подсвечивает центральное положение человека в экосистеме планеты и его ответственность за нее. Термин «антропоцен» был принят большинством ведущих ученых и международных организаций и активно используется в климатической повестке. Он обозначает геологический период, начавшийся в середине прошлого века, когда деятельность человека стала главным и неоспоримым двигателем экологических изменений на Земле. Предполагается, что введение нового понятия должно подтолкнуть современного человека к пересмотру устаревшего мировоззрения, помочь ему почувствовать себя частью природы и, главное, начать действовать.
Юрген Ренн, директор Института истории науки Макса Планка, считает, что в сфере науки и образования это уже происходит. Например, во многих европейских университетах традиционную дисциплину под названием «геология» переименовали в более обширную и инклюзивную «науку о земных системах». Рози Брайдотти вообще утверждает, что только путем наполнения слов новыми смыслами мы придем к созданию человека нового типа (gеo-cеntrеd subjеct), который будет заботиться не о себе, а о планете. А потом остается только повторять эти слова снова и снова, укрепляя фасады реальности.
Журналисты тоже держат руку на пульсе и периодически пересматривают список актуальных терминов. В 2019 году газета The Guardian, ориентируясь на ведущих ученых и международные организации, ужесточила тон своих публикаций о проблемах климата. Редакция отказалась от мягкого и ни к чему не обязывающего термина «изменение климата» (climаtе chаngе), заменив его на «климатический кризис» (climаtе crisis) — оборот, который используют Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и, например, Ханс Йоахим Шелльнхубер, бывший советник Ангелы Меркель, Еврокомиссии и папы римского по вопросам климата.
По мнению главного редактора The Guardian, это и другие словосочетания — «чрезвычайное положение», «чрезвычайная ситуация» (climаtе еmеrgеncy, climаtе brеаkdown) — более точно описывают катастрофу, с которой вот-вот столкнется человечество. Газета также советует употреблять оборот global heating («глобальное нагревание») вместо global warming («глобальное потепление») — вслед за главой Метеорологической службы Великобритании Ричардом Беттсом.
Thе Guаrdiаn также продвигает термины wildlifе («живая природа») вместо biodivеrsity («биоразнообразие»), fish populаtions («рыбные популяции») вместо fish stocks («рыбные запасы») и climаtе sciеncе dеniеr («отрицающий науку о климате») вместо climаtе scеptic («настроенный скептически по отношению к климату»).
Вокруг того, как называть последнюю категорию людей — скептиками, отрицателями, сомневающимися или противниками, — идет целая лингвистическая дискуссия. Величать упертых в своем невежестве спорщиков уважительным словом «скептик» — много чести; термин «отрицатель» вызывает неуместные ассоциации с холокостом; предложенный Associаtеd Prеss оборот «ставящий климат под сомнение» (climаtе doubtеr) — сам по себе бестолковый; выражение «противник климата» (climаtе contrаriаn) тоже не особо логичное и к тому же относится только к тем, что активно выступает против научного консенсуса. Вопрос пока остается открытым, а список эпитетов постоянно пополняется.
Изменение климата VS глобальное потепление
Немалое значение имеет и то, какие термины мы выбираем из облака уже существующих. Так, выражения «изменение климата» и «глобальное потепление» часто используют как взаимозаменяемые не только в кухонных дебатах, но и в журналистских текстах. При этом первое относится к широкому спектру климатических условий (осадки, ветры, океанские течения и т. д.), на которые влияют антропогенные выбросы парниковых газов; второе описывает только один аспект изменений — нагревание поверхности Земли. Оба термина порождают свои шлейфы ассоциаций и в разной степени тревожат публику. Этим активно пользуются, например, американские политики.
В 2014 году Йельский университет опубликовал исследование, из которого очевидно, что обороты «изменение климата» и «глобальное потепление» значат для людей разные вещи: они активируют разные установки, убеждения, эмоции и модели поведения.
«Глобальное потепление» гораздо больше вовлекает человека в проблему, сообщает ему больше негатива, дает более четкое ощущение реальности происходящего, ответственности человечества и угрозы для будущих поколений. Термин «изменение климата», в свою очередь, чуть ли не снижает уровень вовлеченности.
Этим раскладом и руководствовался Фрэнк Лунц, социолог и эксперт по коммуникациям, который в 2000-х убедил администрацию Джорджа Буша-младшего продвигать термин «изменение климата» вместо «глобального потепления». Лунц объяснял, что для американцев climate change «звучит, как поездка из Питтсбурга в Форт-Лодердейл», в то время как globаl wаrming вызывает катастрофические коннотации. «Изменение климата» представляется чем-то менее волнующим и более управляемым, а потому именно этот оборот закрепился в политическом дискурсе США. В то же время когда надо американские консерваторы умеют воспользоваться и семантическим потенциалом «глобального потепления». Этот термин вызывает стойкие ассоциации с повышением температуры, чем и пользуются сенаторы вроде Джима Инхофа. Взяв за основу заложенную в термине идею жары, «скептики» считают, что можно легко развенчать тезис об изменении климата с помощью наглядных доказательств — например, указав на снегопад за окном.
«Доклад Лунца положил начало использованию формулы „изменение климата“. Задумка была в том, что „климат“ вызывает приятные образы — скорее покачивающиеся на ветру пальмы, а никак не затопленные прибрежные города. Слово „изменение“ подчистило любые следы человеческого вмешательства: климат просто меняется, и винить в этом некого».
Джордж Лакофф (George Lakoff (2010). Why it Matters How We Frame the Environment, Environmental Communication, 4:1, 70-81)

Метафоры: космическая Одиссея озоновой дыры
Политические дебаты часто сводятся к подобной борьбе метафор как раз потому, что метафора — один из самых мощных инструментов воздействия и убеждения. Джордж Лакофф, профессор когнитивной лингвистики в Беркли, объясняет это так: факты обретают для нас смысл, только когда находят место в нашей системе взглядов, а точнее в одной из наших бессознательных когнитивных структур (фреймов). Языковой фрейм — это набор связанных друг с другом слов на определенную тему: узнав про новое понятие, мы определяем его в одну из наших «ячеек» со знаниями о мире.
Чтобы человек уяснил нечто настолько сложное, как изменение климата Земли, у него должны быть заложены основы фрейма, на который ляжет новая информация. Лакофф считает, что в современном обществе катастрофически не хватает идей и знаний об окружающей среде, поэтому не только рядовой землянин, но и политики и журналисты не в состоянии облечь происходящее в слова. Если фрейм отсутствует, его можно начать аккуратно создавать — изобретать термины с нуля (как в случае с «антропоценом») или наводить мосты с помощью метафор. Например, в научно-популярных статьях новую информацию часто подают через устойчивые выражения («Океан теряет аппетит к углероду»), а иногда получается создать всеобъемлющую метафору, которая вписывает новое знание во всем понятную бытовую ситуацию.
Например, гениальную в своей простоте метафору об атмосфере как о протекающей ванне. Из нее и ребенку станет понятно, что эпизодическое сокращение выбросов не решает проблему и СО2 будет накапливаться в атмосфере до тех пор, пока «кран» не перекроют полностью.
Наверное, самый любопытный пример того, как важный научный факт смог пробиться в массовое сознание, это история с озоновой дырой, обнаруженной в 80-х годах. Открытие поставило на уши весь мир, были приняты меры — и чудеса! дыра над Антарктидой вот уже 20 лет как уменьшается. Канадский социолог Шелдон Унгар объясняет это тем, что образ озонового слоя и возникшей в нем бреши оказался очень созвучен образам из тогдашней популярной культуры: «Стартрека», «Звездных войн», видеоигр о полетах в космос. Метафора защитного экрана (озоновый слой), пробоины в нем (озоновая дыра), смертельных лучах, атакующих землян (ультрафиолетовое излучение) делала проблему очень простой для понимания и, кроме того, затрагивала эмоции. Дыра над Антарктидой представала реальной угрозой, с которой можно и нужно бороться. И действительно, сейчас ученые называют историю с озоновым слоем самым успешным примером нейтрализации экологической угрозы.
Истончение озонового слоя с легкостью вписалось в наш мысленный образ еще и потому, что само по себе это явление нехитрое: у него не так много причин и последствий. То ли дело изменение климата, которое никак не сложится в общественном сознании в ясную картинку.
Всем понятно, что «дыра» — это изъян, ее нужно залатать, чтобы не допустить проникновения вражеского излучения через слабеющую оборону.
Парниковый эффект, в свою очередь, был и остается естественной частью климата Земли, вызванное им глобальное потепление — сложный и изменчивый процесс, что уж говорить про совокупность климатических сдвигов. У человечества нет на этот счет заготовленных метафор, которые помогли бы переварить стоящую за всем этим науку.
Причины, следствия и погрешности: ловушка объективности
Изменение климата потому и не удается преподнести быстро и схематично, что это комплексное явление, которое включает сотни разнородных факторов и показателей. Лакофф объясняет, что оно основано на крайне сложной причинно-следственной связи, и стремление упростить эту связь («В смысле глобальное потепление? За окном же метель!») ведут к логической ошибке. Довольно легко объяснить прямую цепочку «причина-следствие» — например, механизм образования метели. Чуть сложнее описать взаимодействие двух цепочек, например, когда тропический циклон с побережья Африки встречается с полярными ветрами, и в итоге разрушительный ураган Сэнди обрушивается на Нью-Йорк. Более того, климат Земли включает еще и циклы обратной связи, самый известный из которых — таяние полярной ледниковой шапки (полярные льды отражают солнечный свет, сдерживая нагревание планеты; чем больше планета нагревается, тем быстрее тают льды; площадь ледников уменьшается — они отражают все меньше света — планета все больше нагревается и так по кругу). В совокупности все эти явления обнаруживают закономерности, динамика которых позволяет делать прогнозы, выявлять тенденции и строить модели, то есть структура причинно-следственных связей усложняется еще на порядок.
Именно такой вероятностный подход, лежащий в основе науки о климате, плохо поддается упрощению. Это поняли и ученые из МГЭИК (Межправительственной группы экспертов по изменению климата), столкнувшись с необходимостью оповещать и предостерегать широкую публику. МГЭИК — крупнейшая в мире комиссия, которая оценивает риски и последствия глобальных природных изменений, на ее многостраничных докладах строятся все международные обсуждения климата. Так как эти доклады предназначены для политиков, журналистов и общественных деятелей, научный язык в них, насколько возможно, маскируется под общепонятный. Хотя, как выясняется, понятен он не всем.
Дело в том, что взаимосвязь климатических параметров невозможно описать без доли сомнения, к которому сами ученые привыкли и которое выражают в процентах. Но как донести вероятность до широкого читателя, не исказив посыл и не перегрузив текст цифрами?
В отчетах используются так называемые эпистемические модификаторы («вероятно», «маловероятно») и их вариации, а также выражения вроде «есть твердые доказательства» и «с высокой степенью достоверности». Вставлены они не для красного словца — эти обороты статистически откалиброваны, их значение расшифровано в глоссарии к каждому документу: например, выражению «практически определенно» соответствует вероятность в 99-100%, «весьма вероятно» значит от 90 до 100%, «вероятно» — в пределах 66-100%, «маловероятно» — от 0 до 33%, а «исключительно маловероятно» означает, что вероятность события составляет 0-1%. Например:
«Наблюдения изменений солености в поверхностном слое океана также предоставляют косвенное свидетельство изменений в глобальном круговороте воды в океане (средняя степень достоверности). Весьма вероятно, что в регионах с повышенной соленостью, где идет активное испарение, вода стала еще более соленой, в то время как в регионах с низкими показателями солености, где выпадают обильные осадки, она стала еще более пресной с 1950-х гг.»
МГЭИК, 2014: Изменение климата. Обобщающий доклад
Здесь наука встречается с читабельностью, и получается не очень. Более того, язык авторов доклада не вполне совпадает с тем, как рядовой читатель привык воспринимать информацию. Несколько исследований, посвященных тому, как тексты МГЭИК передают научную погрешность, говорят о том, что интуитивное понимание читателя ощутимо отличается от значений, заложенных в тексте, даже когда у него перед глазами открыт глоссарий: он склонен занижать вероятность явлений, спрогнозированных учеными. Вероятно, дело в том, что мы привыкли к приукрашенным фактам и далеко идущим выводам научпопа и непроизвольно делим на два даже строго научные данные, в то время как авторы доклада, конечно, ничего не утрируют. Учитывая, что целевая аудитория отчетов МГЭИК — это люди, принимающие политические решения, прочтение со скидкой на преувеличение только замедляет борьбу с проблемой. А те, кто сомневается в реальности угрозы, и вовсе приводят взвешенный тон докладов в оправдание бездействию — будто бы мы пока знаем недостаточно.

Нарративы: «равнодушные» против «экоактивистов»
Отчеты МГЭИК всегда выходят в паре с сокращенной и еще более упрощенной версией под названием «Резюме для политиков». Этот документ — результат недельных переговоров ученых с представителями власти, в ходе которых оригинальный текст подвергается разбору строчка за строчкой. В итоге предостерегающий тон документа заметно ослабевает: например, фраза «растущее воздействие» из основного доклада превращается в «меняющееся воздействие» в докладе для политиков, а «возросшая» частота экстремальных погодных условий — в «изменившуюся». Это один из примеров того, как дискурс о климате приобретает политическое измерение и становится частью более глобального нарратива.
Большая часть существующих нарративов о климате помещается как раз между сферой науки и сферой политики. В то же время в научных публикациях появляется все больше риторики, а по стилю они все больше приближаются к политическим выступлениям. Может, это и к лучшему: нарративы о климате нужны нам как никогда, ведь именно они преподносят изменение климата как проблему.
Повествовательный подход позволяет уложить научные данные в историю с завязкой, развитием, кульминацией, развязкой и даже моралью, а еще присвоить основным действующим лицам черты классических персонажей: героя, вредителя, жертвы, ложного героя, дарителя.
В 2019 году в Великобритании проанализировали климатические нарративы, сложившиеся на страницах основных британских изданий в последние годы, и выявили четыре основных истории (которые с успехом можно применить и к российской эко-повестке).
Первый нарратив исследователи назвали «равнодушие», суть его такова: да, изменение климата происходит, и да, в этом виноват человек, но ученые нарочно преувеличивают опасность — беспокоиться не о чем, наоборот, скоро начнем выращивать бананы на даче. В рамках второго нарратива («экоактивизм») перенаселение и культ потребления ведут человечество к коллапсу, от которого спасут только радикальные меры; технологии не помогут, нужен полный передел экономического и общественного уклада. Идеи третьего нарратива, условно названного «разумный рост», перекликаются с «экоактивизмом» (нужно срочно остановить уничтожение экосистемы), но отличаются тем, что здесь устойчивое развитие экономики без потери привычного стиля жизни вполне достижимы, и вообще климатические проблемы — это возможности для бизнеса. Центральная идея четвертого и самого распространенного нарратива под кодовым названием «экомодернизм» в том, что помимо инвестиций в технологии и «зеленую» энергию необходимо задуматься об адаптации к изменившемуся климату в долгосрочной перспективе: решить эту проблему не получится, зато можно увидеть в ней шанс построить новое светлое будущее со всеобщим равенством и благоденствием.
Эмпатия: воспитание осознанности
Сталкиваясь с разными взглядами на изменение климата, человек получает более полное понимание проблемы и в то же время может растеряться: что делать-то? Ответ на этот вопрос — уже вне компетенции науки, зато его могут подсказать журналисты, блогеры, депутаты или представители общественных организаций. Если эти люди умеют обращаться с языком, они способны на великие дела — например, могут помочь человеку почувствовать себя частью окружающей его природы и изменить свои привычки.
Об эффективной коммуникации научных данных написаны сотни статей и книг, основные советы одни и те же: упрощайте форму и никогда — содержание; помещайте факты в контекст и связывайте их с моральными ценностями; дайте читателю принять взвешенное решение; расскажите, какой вклад может внести лично он.
Тот, кто находится по другую сторону информационного потока, тоже несет ответственность за сообщение: проверить его, восстановить полную картину, сделать выводы должен он сам.
И потом, пусть научный скептицизм неуютно чувствует себя в рамках научпопа и вообще не годится для привлекательных заголовков, но ведь необязательно нести понимание через научные данные. Знание скорее закрепится в памяти, если проникло туда вместе с чувством. Пример того, как творческий подход автора пробуждает эмпатию, а с ней и осознанность — пронзительная научно-популярная книга Дэвида Куаммена «Песнь Додо». Это путешествие неравнодушного человека по островам планеты, попытка разобраться в том, как зарождаются и вымирают виды животных и какое отношение к этому имеет человек. Вот освежающий восприятие фрагмент об участи птицы додо (Raphus cucullatus) с острова Маврикий; мы истребили ее настолько быстро, что она стала символом хрупкости природных экосистем:
«…Маврикийский дронт исчезал с лица земли. Но в груди этой самой последней особи еще билось сердце. Представим, что ей было около тридцати лет — дряхлая старость для большинства птиц, но не для таких крупных пернатых. Она уже не бегала, а ковыляла; в последнее время все хуже видела; пищеварение тоже стало подводить. Однажды в 1667 году, скажем, в предрассветных сумерках она укрылась от ливня за холодным каменным уступом у подножия одной из скал Блэк Ривер. Она прижала голову к телу, распушила перышки, чтобы немного согреться, и зажмурилась в тихом отчаянии. Она ждала. Ни она, ни кто другой не знал, что она осталась последней птицей додо на Земле. Ливень закончился, но она больше не открывала глаз. Вот что такое вымирание».
Дэвид Куаммен, «Песнь Додо». Перевод автора