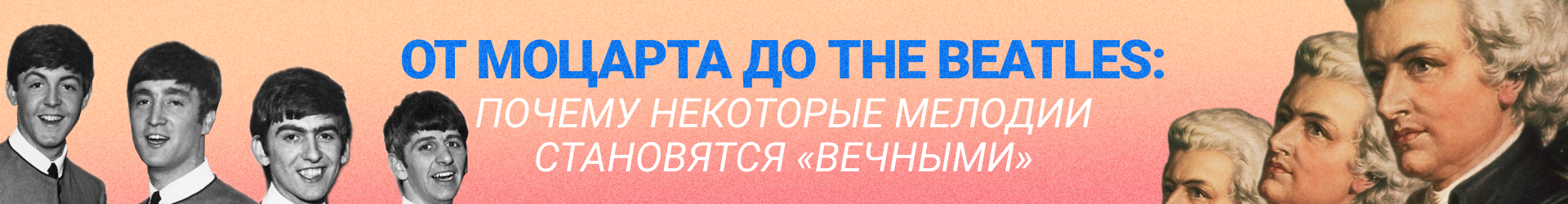Поэма всех наций и всех веков. Как «Приключения Телемаха» Франсуа Фенелона положили начало эпосу в прозе
Франсуа де Салиньяк де ла Мот-Фенелон (1651–1715) — французский священнослужитель, богослов и писатель, наставник герцога Бургундского, внука Короля-Солнца. Автор романа «Приключения Телемаха» (1699), который имел большой успех по всей Европе, переводился на многие языки, неоднократно переиздавался и был крайне популярен на протяжении XVIII–XIX веков. В России его стихотворное переложение выполнил Тредиаковский под заглавием «Телемахида» (1766). Благодаря чему этот роман покорил широкую публику, критиков и писателей? Филолог Алексей Любжин рассказывает об античных корнях и теории эпоса Нового времени, которые легли в основу первой прозаической эпопеи.
I. Античный фон
Современное читательское сознание не ждет и не требует от актуальной литературы крупных поэтических сочинений. Подавляющее большинство стихотворной продукции — малые жанры, да и среди них значимая часть — верлибры — отличаются от прозы скорее названием, чем делом. Античный подход был прямо противоположным: никого не удивляло, что Никандр из Колофона написал поэму о ядах и противоядиях, а Вергилий — о сельском хозяйстве (хотя и не только о нем). Одна черта тем не менее роднит античный и современный подход: в центре жанровой системы стоит произведение крупное — тогда это был стихотворный эпос, а ныне — роман. По отношению к некоторым произведениям последнего жанра мы пользуемся обозначением «роман-эпопея», подчеркивая масштаб и героический характер (например, мы относим это понятие к «Войне и миру» Л. Н. Толстого).
Между тем роман — крупное прозаическое произведение-fiction — существовал и в античности. Но там он влачил (с существенными оговорками, конечно) жалкое существование развлекательного жанра для непритязательной публики и даже не имел определенного жанрового обозначения, не стал предметом внимания теоретиков литературы. «Дафнис и Хлоя» Лонга — пастораль в прозе (τὰ ποιμηνικά, что и созвучно с буколикой, и не тождественно ей), произведение, посвященное пастушеской жизни, т. е. определяется по содержанию, а не по форме (и в этом смысле произведение является предшественником современного прозаического эпоса), «Сатирикон» — уже судя по заглавию мениппова сатира, смесь прозы и стихов (для нас это жанр необычный, и мы не ощущаем стихотворные вставки так, как если бы они могли оказать влияние на определение жанра). Апулей определяет жанр «Метаморфоз» как милетские рассказы. Приведем свидетельство Плутарха из жизнеописания Красса об этом жанре: «Сурена же, собрав селевкийский совет старейшин, представил ему срамные книги „Милетских рассказов“ Аристида. На этот раз он не солгал: рассказы были действительно найдены в поклаже Рустия и дали повод Сурене поносить и осмеивать римлян за то, что они, даже воюя, не могут воздержаться от подобных деяний и книг. Но мудрым показался селевкийцам Эзоп, когда они смотрели на Сурену, подвесившего суму с милетскими непотребствами спереди, а за собой везущего целый парфянский Сибарис в виде длинной вереницы повозок с наложницами». О Петронии и Апулее поздний автор Макробий в комментариях на «Сон Сципиона» пишет так: «Произведения, наполненные вымышленными приключениями влюбленных, в которых изрядно отличился Арбитр, да и играми Апулея мы восхищаемся нередко».
Вообще же с массовым греческим романом дело обстоит так: Маринина и Донцова являются его естественными продолжателями, Тургенев и Флобер — нет.
Римляне любили исторический эпос. Этот жанр был осужден Аристотелем в «Поэтике» (поэзия должна иметь дело с общим, история — с частным, и потому поэзия серьезнее и философичнее истории), но, к счастью, эти соображения не нашли доступа к их сердцу. Историческая тематика по крайней мере не уступает мифологической как в несохранившейся части, так и среди дошедших до нас произведений. Но как раз исторический эпос (в отличие от прозаической историографии) мог содержать больше элементов fiction, требования к достоверности были меньше, чем в прозе (где они тоже далеко не доходили до уровня современных научных). И если нашим литературным проектом является эпопея в прозе, то, очевидно, она должна прежде всего ориентироваться на античную стихотворную эпопею, а не на крупную античную прозу fiction.
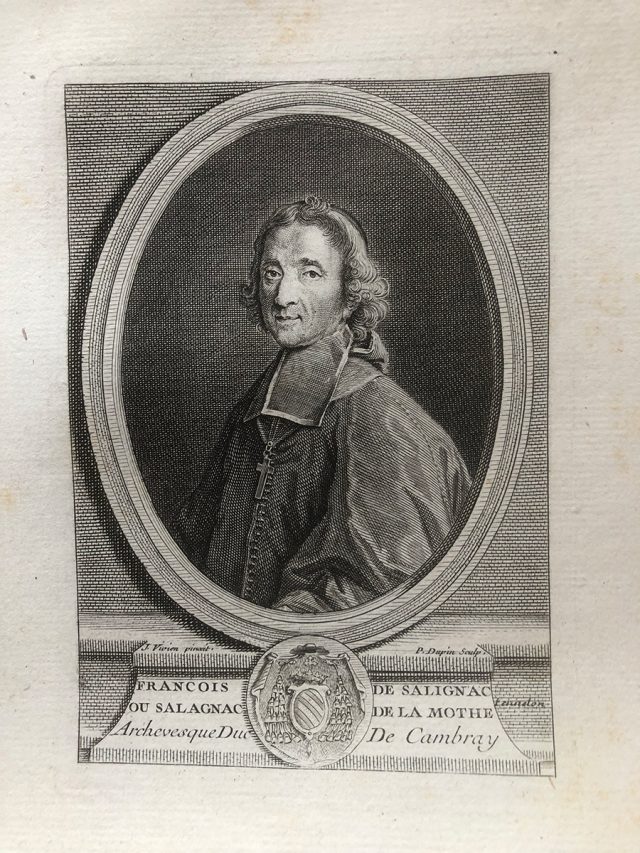
(Отметим в скобках: было бы интересно посмотреть на терминологию. Для нас слова «поэзия» и «проза» очевидно чужие, и это помогает им быть чистыми терминами. Но для античных людей это не так: ποίησις по-гречески — просто «делание», «творчество». Но такой разбор мог бы увести нас далеко от темы.)
II. Рене ле Боссю и его «Трактат об эпической поэме»
Влиятельным опытом осмысления теоретического и практического античного наследия стало сочинение Рене ле Боссю (1631–1680) «Трактат об эпической поэме». Чтобы подчеркнуть широту интеллектуальных интересов этого каноника аббатства Св. Женевьевы, назовем и второй его научный труд — «Сравнение принципов физики Аристотеля и физики Рене Декарта». Трактат об эпической поэзии — довольно большая и подробная книга, и она оказалась популярной, вызвав, в частности, одобрение Никола Буало, и была тепло встречена Французской Академией. В 1695 г. вышел английский перевод этого труда, который тоже не ограничился одним изданием.
Ле Боссю утверждает, что в его соображениях нет ничего, чего не было бы в «Поэтиках» Аристотеля и Горация. В качестве образцовых эпосов он называет Гомера и Вергилия, которых разбирает подробно. Его труд завершают слова: «Кто-либо может полагаться на свои суждения относительно эпической поэмы и убедиться в ее правильности и порядочности, когда его мысли, его гений и его размышления сообразны с наставлениями Аристотеля и Горация и с практикой Гомера и Вергилия». Эпопея для него — «речь, изобретенная с искусством, чтобы образовать нравы наставлениями, переодетыми в аллегорическую форму действия важного, рассказанного стихами в правдоподобной, развлекательной и чудесной манере».
Всего трактат состоит из шести книг. Первая из них — «О природе эпической поэзии и о фабуле». Здесь мы сталкиваемся с терминологической проблемой: французская fable (аналог греческого μῦθος) — слово многозначное, она может означать и фабулу, и басню; для Боссю это тождество важно, он многое в механизме эпического сюжетосложения объясняет через басенные параллели; но от современного русского читателя оно ускользает. Для теоретика и для правильно действующего поэта намерение — нравственный урок — предшествует сюжету, сначала нужно озаботиться первым, а потом уже подобрать для этого имена и деяния. Боссю подробно разбирает с этой точки зрения обе гомеровских поэмы и «Энеиду».
«Гомер, стало быть, взял за основу своей басни великую истину, что несогласие между государями разоряет их собственные страны. Я пою, говорит он, гнев Ахилла, столь гибельный для греков…».
«Царь вне своего государства находится при дворе многих правителей, где он изучает нравы различных наций. Отсюда естественным образом возникает бесконечное число столкновений, опасностей и встреч, весьма полезных для политического наставления; с другой же стороны, это отсутствие дает место беспорядкам в его собственном царстве, которые могут прекратиться только с возвращением царя, одно присутствие которого может восстановить все». «Он [Вергилий] должен был наставить Августа как основателя великой империи и внушить ему — как и всем его преемникам — тот же дух и то же поведение, которые сделали эту империю столь великой… Боги сохраняют государя при крушении могущественной страны и избирают его, чтобы сохранить ее религию и чтобы восстановить империю, более великую и славную, нежели первая. Этот самый герой добровольно избран царем теми, кто остался от обломков этого царства. Он ведет их в земли, откуда вышли его предки, и по дороге просвещается во всем, что необходимо для царя, понтифика и для основателя монархии. Он прибывает [на место] и находит в этой стране также богов и людей, склонных его принять и дать ему подданных и земли. Но соседний государь, которому честолюбие и ревность закрывали глаза на справедливость и на приказы неба, противится его водворению; его поддерживает в этом царь, лишенный своих стран за жестокость и нечестие. Это противостояние и война, к которой принужден благочестивый чужеземец, делает его водворение более справедливым благодаря праву завоевания и более славным благодаря победе над врагами и смерти их».
Вторая книга рассматривает «материю» эпической поэмы, или ее действие. Для этой части важны соображения Аристотеля об эпизодах и единстве действия. «Аристотель весьма хвалит Гомера за простоту его замысла… Он противопоставляет ему невежество некоторых поэтов, воображавших, будто единство фабулы или действия будет в достаточной мере сохранено единством героя, которые сочиняли „Тезеиды“, „Гераклиды“ и подобные поэмы, в каждой из которых они собирали все, что произошло с их главным персонажем». Здесь же рассматривается начало, середина и конец действия, его причины, узлы и развязка, а также длительность действия.
Третья книга посвящена форме, или повествованию. В ней идет речь о заглавии, представлении темы, обращении к богам (все это — типичные признаки эпических поэм, но одновременно ничтожная часть их объема, и современному читателю удивительно, что этим элементам отводится важное место). К этой части относятся вероятное (или правдоподобное) и удивительное. Истинность и правдоподобие могут прекрасно обходиться друг без друга. История имеет дело с истинным, и до правдоподобия ей дела нет. Эпические и драматические фабулы предпочитают правдоподобный вымысел лишенной правдоподобия правде. Эти вещи имеют нравственное измерение: буря на пути Энея в Италию и его спасение правдоподобны, и это — нравственная истина: бог испытывает людей доброй воли и, кажется, иногда оставляет их, но в конце концов спасает их от опасностей, которым они подвергались по его попущению, — это не только истинно, но и правдоподобно. Но не все в эпической поэме должно быть таковым. Беседы Юноны и Эола лишены как истинности, так и правдоподобия. За рамками этих общих соображений можно вдаваться в частности и рассматривать правдоподобие с точки зрения богословия, морали, природы, разума, опыта и мнения. В последнем случае имеется в виду общее мнение (opinion commune); одна и та же вещь может показаться правдоподобной знатокам и неправдоподобной народу, или наоборот. Удивительное противоположно правдоподобному, но мы не восхищаемся ничем, о чем думаем, что этого никогда не было; преувеличения, превосходящие всякую меру, порождают такие мысли
Здесь мы тоже имеем дело с нюансами значения: греческое θαυμαστόν, как и французское admirable, означает и «удивительное», и «восхитительное», но русского слова, сочетающего оба эти значения, не существует.
Впрочем, цитируя Аристотеля на полях трактата, Боссю переводит это θαυμαστόν то как admirable («удивительное/восхитительное»), то как merveilleux («чудесное»). Драматурги должны уделять больше внимания правдоподобному, нежели чудесному; эпикам надлежит поступать наоборот, поскольку драма воспринимается в том числе и глазами, а эпопея — только ушами. «Я полагаю, что лучшие правила, позволяющие знать, до какой степени дозволено продвигать чудесное, и чтобы понимать, что будет хорошо принято, что оттолкнет, а что станет смешным, — во-первых, здравый смысл, затем — чтение хороших авторов, а кроме того — самые примеры неудач, и сравнение одного с другим. Но и в этом различении не стоит игнорировать гений, обычаи и нравы веков». Будучи удивительным, эпическое действие должно быть трогательным и одушевленным страстями. Каждая эпопея имеет свою особую страсть: «Илиаду» одушевляет гнев, «Энеиду» — нежные и мягкие страсти.
Четвертая книга рассматривает нравы; ее главная часть — характеры персонажей. Характер имеет подчиненное значение сравнительно с действием: «Мы в достаточной мере показали, что Ахилл должен быть гневливым, несправедливым, неумолимым. Фабула необходимо требовала того, и это обстоятельство делает его нравы столь дурными и столь недостойными порядочного человека. Но в них нет ничего неправильного, ни противоречащего наставлениям Аристотеля, который требует добрых качеств лишь там, где поэт свободен, и порицает порок лишь там, где в нем нет необходимости». Но поэт был волен сделать своего героя трусливым или мужественным; в области свободного выбора подчеркивая достоинства, а не пороки героя, Гомер поступает в полном соответствии с наставлениями Аристотеля и доводит свое искусство до такой степени, что пороки героя становятся почти незаметны на фоне его мужества.

«Одиссея» посвящена управлению государством и политике; и качество, которое тут требуется, — благоразумие; «но эта добродетель слишком расплывчатая и протяженная для простоты, которой требует характер справедливый и четкий; ее нужно определить. Великое искусство царей — тайна притворства… И вот характер, который греческий поэт придает Улиссу: в представлении темы он называет его Ἄνδρα πολύτροπον, чтобы отметить благоразумное притворство, которое дает ему возможность принимать столько обликов и перевоплощаться в столько форм».
«Фабула „Энеиды“ весьма отлична от обеих греческих. Поэт желал, чтобы римляне приняли новый вид правления и нового владыку. Стало быть, было нужно, чтобы этот владыка обладал всеми качествами, какие должен иметь основатель государства, и все добродетели, которые заставляют любить государя. Притворство — дурной способ. Того, кому не доверяют, любят мало, и те, кто любит Улисса, любят его лишь по долгом испытании доброты и отцовской любви к ним». «Эней должен был давать своим новым подданным только знаки откровенности и искренности. Он не мог обладать характером Улисса. Насильства Ахилла были совершенно противоположны замыслу „Энеиды“, и поэт основательно приберег их для Турна и Мезенция, которых он противопоставляет своему герою».
Пятая книга посвящена «машинам», т. е. действию богов, и, наконец, шестая — чувствам и выражению. На них мы останавливаться не будем.
Исходя из аристотелевской концепции, согласно которой пересказанный стихами Геродот останется историей и не станет эпической поэмой, Рене ле Боссю отказывает в праве быть эпосами таким произведениям, как «Фарсалия» Лукана, «Пуническая война» Силия Италика и «Фиваида» Стация. Последний эпос — мифологический, а не исторический; но для Боссю между действительной и вымышленной историей нет разницы. Вообще Стаций со своей «Фиваидой» становится в его книге мальчиком для битья: его эпос — «эпизодический», т. е. отдельные элементы плохо связаны друг с другом, характеры — неудачны, и т. д. (Чтобы понять, насколько справедливы эти претензии, читателю имеет смысл заглянуть в предисловие его переводчика, одного из лучших современных филологов России, — «Публий Папиний Стаций — гениальный поэт в бездарную эпоху»).
Боссю понимает, какой вопрос хочет задать ему читатель и потенциальный автор. Он честно отвечает на него:
«Но если кто напишет эпопею в прозе, будет ли это эпической поэмой? Я так не думаю, поскольку поэма — речь в стихах. Не менее того это не помешает ей быть эпопеей; точно так же как трагедия в прозе — не трагическая поэма, но все еще трагедия».
Здесь он, кажется, немного выходит за рамки заявленного. Да, Аристотель признал, что история в стихах — история, а не эпос, и из этого по аналогии можно заключить, что и эпос в прозе будет эпосом; но Аристотель сам этого вывода не делает. И автору этих строк совсем сложно представить себе, чтобы Гораций мог представить себе прозаическую эпопею.
Тем не менее вердикт был вынесен.
III. Казус Фенелона
Вскоре в свет вышел литературный шедевр, который можно считать воплощением этого подхода — «Приключения Телемаха» Франсуа де Салиньяка де ла Мота-Фенелона (1699 г.). Сам Фенелон (1651–1715) определял свое произведение как то, «где, как будет казаться, поэме будет недоставать только метра», а также как «баснословное повествование в форме героической поэмы, как у Гомера и Вергилия, куда я поместил основные наставления, подобающие принцу, по рождению предназначенному царствовать». И действительно, как пишет один из современных исследователей, Филипп Селье, «пристальное рассмотрение произведения… раскрывает мощь эпического давления: рамка, персонажи, модели, характерные эпизоды, технические правила, чудесное, стилистические черты. Именно гибкость эпопеи позволила усвоить трагическое, романное, политическую и религиозную рефлексию и т. д.». На возможность написать хорошую эпическую поэму французскими стихами Фенелон смотрел скептически. Ученик Фенелона Эндрю-Майкл Рэмси (или, если угодно, Андре-Мишель де Рамсей), обратившийся под его влиянием в католицизм, в 1717 г. издает в двух томах роман Фенелона со своим предисловием — «Речь об эпической поэзии и о превосходстве поэмы о Телемахе». Рэмси, опираясь на трактат Боссю, подробно доказывает, что «Телемах» Фенелона — образцовая эпопея. Он рассматривает поэму (это слово появляется с самого начала) с двух точек зрения — «наставлять» и «нравиться», instruire и plaire. «Мы увидим, что автор был назидателен больше, чем древние, в силу возвышенности своей морали, и нравился столько же, сколько и они, подражая всем их красотам». Определение эпической поэмы у него — «басня, рассказанная поэтом, чтобы вызвать восхищение и внушить любовь к добродетели, представляя нам действие героя, которому благоприятствует Небо и который осуществляет свое великое намерение, несмотря на все встающие перед ним препятствия».
Таким образом, у эпопеи есть три стороны — действие, нравственность и поэзия.
«Действие должно быть великим, единым, целым, чудесным и определенной длительности». У «Телемаха» есть все эти качества. Как и Боссю, Рэмси рассматривает только двух поэтов — Гомера и Вергилия, причем у первого он берет только «Одиссею».
«Действие эпопеи должно быть единым. Эпическая поэма — не история, как „Фарсалия“ Лукана и „Пуническая война“ Силия Италика, ни полное жизнеописание героя, как „Ахиллеида“ Стация: единство героя не создает единства действия. Человеческая жизнь полна неравенств. Он непрестанно меняет намерения, или по непостоянству страстей, или по непредвиденным случайностям в своей жизни. Кто хотел бы описать всего человека, создал бы лишь странную картину, контраст противоположных страстей без связи и без порядка. Потому эпопея — не похвала Герою, которого выставляют за образец, но рассказ о действии великом и знатном, которое предлагают как пример».
Действие фенелоновой эпопеи сочетает достоинства «Одиссеи» и «Энеиды». В главном герое оживают благоразумие Улисса, благочестие Энея и доблесть их обоих. Переход от эпизода к эпизоду дает почувствовать единство замысла, и за второстепенным никогда не исчезают главные герои. «В поэзии как в живописи, единство основного действия не мешает вставке большого числа частных событий. Замысел сформирован с начала поэмы, и герой доводит его до конца, преодолевая все препятствия. Рассказ о том, что ему противостоит, и образует эпизоды; но все эти эпизоды зависят от основного действия и так связаны с ним, так едины между собой, что все вместе представляет единую картину, составленную из многих фигур в добром порядке и в правильной пропорции.
…Достаточно отметить, что автор „Телемаха“ повсюду подражал правильности Виргилия, избегая недостатков, в которых обвиняют греческого поэта. Все эпизоды нашего автора непрерывны и ловко вклинены друг в друга, так что первый ведет за собой следующий».
«Эпическое действие должно быть полным. Эта целость предполагает три вещи: причину, узел и развязку. Причина действия должна быть достойна героя и сообразна с его характером. Таков замысел „Телемаха“, мы уже это видели. Узел должен быть естественным и извлеченным из основы самого действия. В „Одиссее“ его образует Нептун. В „Энеиде“ это гнев Юноны. „В Телемахе“ это ненависть Венеры. Узел „Одиссеи“ естествен, потому что, естественно, нет опасности страшнее для идущих в море, чем само море. Противостояние Юноны в „Энеиде“, как враждебной троянцам, — прекрасный вымысел. Но ненависть Венеры к юному принцу, который презирает наслаждение из любви к добродетели и укрощает свои страсти с помощью мудрости, — басня, извлеченная из природы, заключающая в себе возвышенную мораль».
Приведем еще одно длинное извлечение, которое, в частности, показывает, почему Рэмси предпочитает Фенелона древним с нравственной точки зрения (и это не сводится к превосходству христианской морали над языческой), а современным романистам с точки зрения искусства.
«Кроме главного узла и развязки каждый эпизод имеет собственный узел и собственную развязку. Они все должны иметь единые условия. В эпопее не стремятся к неожиданным интригам современных романов. Одно только удивление производит впечатление весьма несовершенное и мимолетное. Возвышенное заключается в подражании простой природе, в подготовке событий столь изящным способом, что их не предвидят, и проводить их так, чтобы все казалось естественным. Нет беспокойства, откладывания, отклонения от основной цели героической поэзии, — она заключается в наставлении, — чтобы заниматься баснословной развязкой, воображаемой интригой. Это хорошо, когда единственное намерение — развлекать; но в эпической поэме, каковая есть вид нравственной философии, эти интриги — игра ума, они ниже серьезности и благородства. Если автор «Телемаха» избежал интриг современных романов, то он и не впал в преувеличенное чудесное, в чем некоторые упрекают древних. Он не заставляет говорить лошадей и шагать — треножники, ни трудиться статуи. Эпическое действие должно быть чудесным, но вероятным. Мы не восхищаемся тем, что нам кажется невозможным. Поэт никогда не должен оскорблять разум, хотя у него есть возможность иногда заходить по ту сторону природы. Древние вводили богов в своих поэмах не только для того, чтобы осуществить их посредством великие события и объединить вероятное и чудесное, но чтобы научить людей, что и самые мужественные и мудрые из них ничего не могут без помощи богов. В нашей поэме Минерва беспрерывно сопровождает Телемаха. Таким образом поэт делает все возможным для героя и дает почувствовать, что без божественной мудрости человек не может ничего. Но в этом не все искусство. Возвышенное заключается в том, чтобы скрыть богиню под человеческим обликом; это не только вероятное, но и естественное, которое здесь сочетается с чудесным. Все божественно, и все кажется человеческим. Но это не все. Если бы Телемах знал, что им руководствует божество, его заслуга была бы не столь велика, значительна была бы поддержка. Герои Гомера почти всегда знают, что бессмертные делают для них. Наш поэт, отнимая у героя чудесное вымысла, дал восхититься его доблестью и отвагой«.
Затем мы позволим себе две параллельных цитаты — из Боссю и Рэмси, чтобы читатель мог судить о влиянии первого на второго. Они затрагивают длительность эпопеи. Отметим, что из Боссю мы собрали все, что относится к теме, и первый отрывок — в начале его трактата, а остальные — во второй половине. У Рэмси все соображения сведены в одном месте.
Боссю: «Эпопея скорее о нравах и обычаях, чем о страстях. Последние зарождаются вдруг, и их буйный порыв не длителен; но обычаи более спокойны, они исчезают или запечатлеваются более медленно. Стало быть, эпическое действие не может быть заключено одним днем, как театральное; ему нужно было более справедливое и длительное пространство, чем трагедии, которая о страстях»; «Действие [„Илиады“] таким образом заканчивается менее чем в пятьдесят дней, без перерыва и без перебоев»; «Следуя только что предложенной мною идее о непрерывности и порядке повествования, нужно было бы сказать о длительности, что год для эпического повествования — то же, что день для трагедии, и что зима так же мало свойственна этому крупному произведению, как ночь — театру; и тот, и другой промежуток, свободный от действия, порождает зияние и порочную и неправильную прерывность в этих поэмах. Так, длительность эпического повествования была бы длиной в одну кампанию, как драматического действия — в один искусственный день [промежуток от восхода до заката — А. Л.]. Но мы можем расширить эту параллель, сказав, что, как время трагедии и комедии было спорным среди ученых и что практика древних темна, так что каждый толкует на свой лад как естественный или искусственный день, — точно так же спорно и точное время эпопеи, поскольку практика Виргилия недостаточно ясна. Сперва можно сказать, что повествование „Энеиды“ длиной в год и несколько месяцев… Можно свести это повествование к точному году… [Третье мнение заключается в том, что] тогда все повествование сведут к одной кампании…» «Гомер более отчетлив… Дважды десять в начале и дважды одиннадцать в конце составляют сорок два; добавить к ним пять дней в середине, и вся длительность действия и повествования будет сорок семь дней»; «Длительность повествования в этой поэме [„Одиссее“] будет пятьдесят восемь дней».
Рэмси: «Длительность эпической поэмы больше, чем у трагедии. В последней царствуют страсти; ничто насильственное не может быть большой длительности. Но доблести и привычки, которые не приобретаются вдруг, свойственны эпической поэме, а следовательно, ее действие должно быть более протяженным. Эпопея может включать в себя действия нескольких лет; но, в согласии с критиками, время основного действия с того места, когда поэт начинает повествование, не может длиться более года, в то время как предел трагического действия — день. Однако же Аристотель и Гораций ничего об этом не говорят. Гомер и Вергилий не соблюдали на сей счет никакого твердого правила. Все действие „Илиады“ происходит за пятьдесят дней. „Одиссеи“ — с того момента, когда поэт начинает повествование, — не больше, чем приблизительно два месяца. „Энеиды“ — годичное. Одной кампании хватает Телемаху с момента, когда он покидает остров Калипсо, и до возвращения на Итаку. Наш поэт избрал середину между порывистостью и натиском, с какими греческий поэт бежит к концу, и величественной и размеренной поступью латинского поэта, который иногда предстает медлительным и, кажется, слишком затягивает повествование».
Основной моральный пункт, где Фенелон превосходит древних, уже назван. Но не только в этом. «Он не говорит ничего, чего не могли бы сказать язычники, но в их уста он вложил все, что есть возвышенного в христианской морали, и тем показал, что эта мораль начертана неизгладимыми буквами в человеческом сердце и что оно неизбежно открыло бы ее, если бы следовало голосу чистого и простого разума».
Мораль «Телемаха» возвышенна в своих принципах, благородна по мотивам и универсальна в применении.
Если «Илиада» показывает пагубные следствия раздора, «Одиссея» демонстрирует в лице царя сочетание благоразумия и мужества, а в «Энеиде» действует благочестивый и отважный герой, то эпос Фенелона далеко выходит за эти рамки величия. Стиль «Телемаха» гармоничен, его живопись превосходна, автор умело пользуется сравнениями и описаниями, воображение отличается богатством и живостью. Пламя Гомера — жгучее, у Вергилия — более ровное; у него больше света, нежели жара; пламя Фенелона освещает и согревает все. «В „Телемахе“ все — разум, все — чувство; и это делает его поэму поэмой всех наций и всех веков».

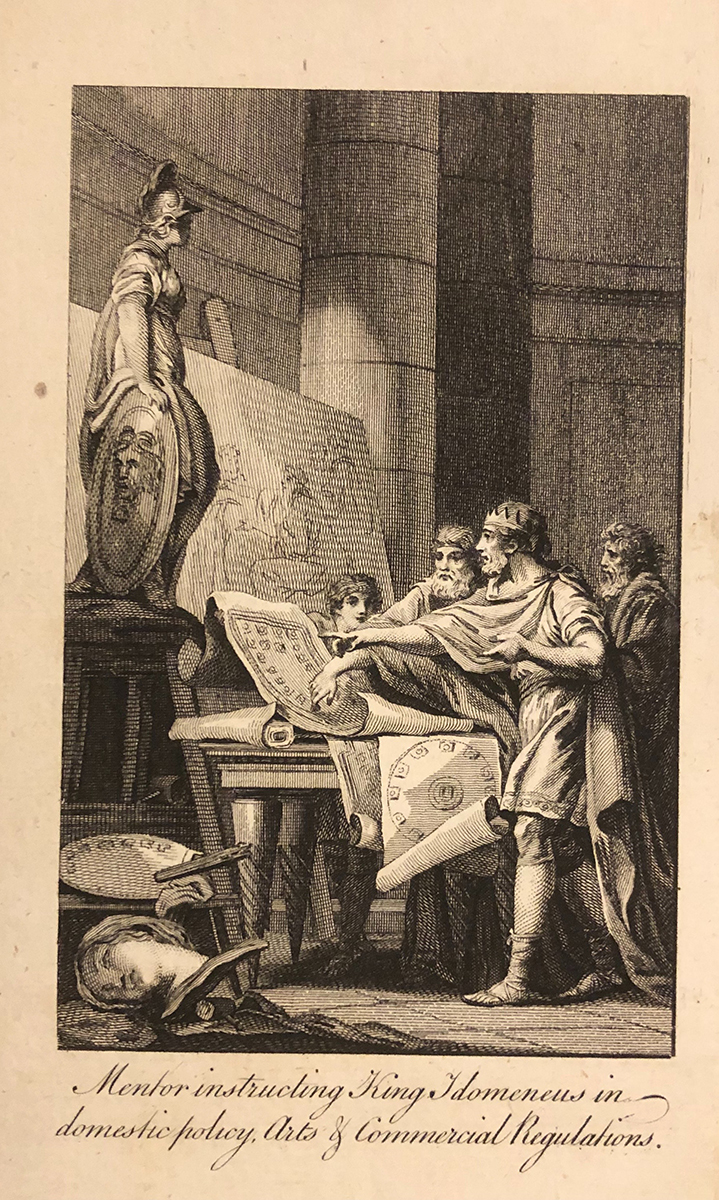
Прозаическая форма «Приключений Телемаха» стала соблазном (или, если угодно, камнем преткновения) для европейской литературы. А. С. Пушкин как-то заметил о В. К. Тредиаковском и его «Тилемахиде»: «Любовь его к Фенелонову эпосу делает ему честь, а мысль перевести его стихами и самый выбор стиха доказывают необыкновенное чувство изящного». Между тем (я ничего не могу сказать о том, были эти факты известны Пушкину и Тредиаковскому или нет), в свет до Тредиаковского явилось немалое число стихотворных переложений романа. В 1733 году вышло голландское. Оно было исполнено — на французский манер — александрийскими стихами. Через десять лет вышло гекзаметрическое латинское переложение. Еще через несколько лет — итальянский перевод в октавах. Раньше Тредиаковского вышел второй латинский перевод, который был переиздан в 1764 г. — тоже раньше Тредиаковского. Таким образом, к тому моменту, когда в свет явилась «Тилемахида», не была новостью ни идея стихотворного переложения, ни даже идея гекзаметрического переложения; новшество Тредиаковского заключается только в русском гекзаметре (отметим в скобках, что его литературно-теоретические соображения, предпосланные «Тилемахиде», в той части, в какой они затрагивают теорию эпоса, — перевод Рэмси).
Роль современного эпического поэта в прозе, несомненно, принадлежит Толкину. И было бы любопытно взглянуть на его творчество через призму старой теории эпоса, в том числе и в изложении Боссю. Между временем, когда старая эпическая традиция была еще жива (это примерно до конца XVIII столетия), и временем, когда писал Толкин, дистанция велика, и в литературной истории это был весьма динамичный период. Однако ответ на вопрос, признали бы старые люди «Властелина колец» эпической поэмой в прозе или нет, представляет собой не только узкотеоретический интерес. Ответ на него позволил бы нам лучше понять, насколько прочен стержень, на котором держится традиция словесного искусства, и насколько возможен диалог между народами и эпохами.