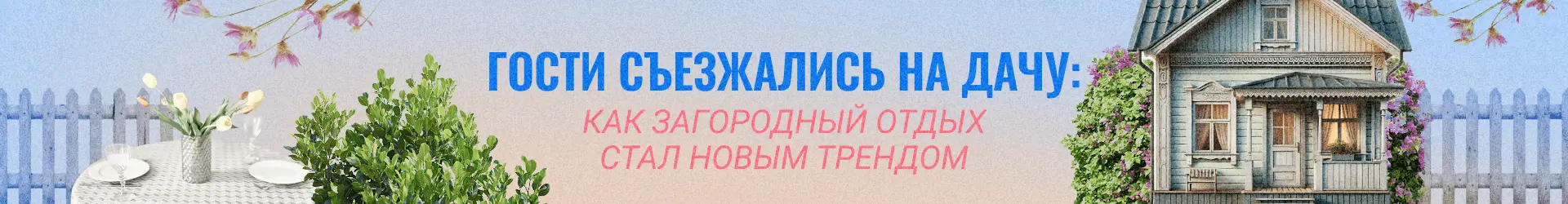Что такое свобода?
Может ли быть свободен человек, который считает себя свободным? Существует ли справедливый суд? Почему гуманисты нередко более жестоки, чем солдаты? Писатель Вадим Климов задается этими вопросами и пытается раскрыть их через призму трех небезызвестных кинокартин и одной книги.
В январе 1950 года газета Le Libertaire публиковала ответы французских писателей на вопрос «Что вы думаете о деле Селина?». Писателя Луи-Фердинанда Селина обвиняли в измене родине и сотрудничестве с нацистами во время оккупации Франции. Поразительно, но практически все респонденты основывали свои заключения — и оправдательные, и обвинительные — на признании или непризнании литературных заслуг Селина. Как будто эстетические предпочтения имеют хоть какое-то отношение к юридическим основаниям преследования.
Есть среди ответов Le Libertaire и заключение Альбера Камю, автора повести «Посторонний», о нелепости примешивания к правосудию посторонних этических вопросов. Но именно этим микшированием занимались французские писатели, решая судьбу своего коллеги. И ровно тем же грешат обыватели всех мастей, утверждая: «Он ни в чем не виноват, потому что он мне нравится» или «Никогда его не любил — делайте с ним что хотите».
Есть ли у человека право на самовыражение и право на беспристрастный суд? Чем вообще определяется индивидуальная свобода?
Если, конечно, это не пустые конструкты, выдумки цивилизации Прогресса. Попробуем разобраться с правами и свободами на примере трех кинокартин: двух американских и одной немецкой.
В черной оптике свободы слова
«Ток-радио» (Talk Radio, режиссер Оливер Стоун, 1988)
Ранняя картина «Ток-радио» одного из самых злободневных режиссеров Америки повествует о Бэрри Чэмплене, ведущем радиопрограммы «Полуночник», которая состоит из эпатажных телефонных бесед. Любой желающий может позвонить на радиостанцию и попытаться спровоцировать ведущего. Работа Чэмплена — отражать выпады и обращать их против самих слушателей.
Шоу «Полуночник» — популярнейшее в Техасе, но вместе с тем и самое ненавистное. Оскорблениями и грубым сарказмом ведущий настраивает аудиторию против себя. Хотя кого-то именно такая подача, наоборот, привлекает. Полярное разделение на ярых сторонников и противников обеспечивает радиопередаче высокий рейтинг.
Бэрри Чэмплен эксплуатирует особенность человеческого восприятия — придавать гораздо большее значение негативу — и в итоге сам оказывается жертвой «черной оптики». Его поклонники скорее навязчивы, нежели полезны, к тому же они всегда где-то в стороне — в отличие от противников, агрессивно возвращающих брутальный цинизм радиоведущего ему обратно.

Фильм поставлен по пьесе Стивена Сингулара, отсюда его камерность. Такая картина не предполагает зрелищности или крутых сюжетных поворотов. Она, скорее, вскрывает психологические коллизии, внутренний мир главного героя, который держит оборону против остального мира.
Однако Стоуна всегда больше интересовали общественно-политические аспекты, нежели индивидуальные, и «Ток-радио» не исключение. Конечно, фигура Чэмплена любопытна: каждый день принимать на себя удары всех полуночных психов Техаса — занятие не из приятных. Но гораздо интереснее личности ведущего его феномен, социальное напряжение, рождаемое радиоэфиром.
За редким исключением каждый звонящий пытается уколоть Чэмплена, причем без всяких оглядок на корректность. Чэмплен не задирает слушателей просто так — он принимает вызов и помещает агрессию анонима в психическое пространство его уязвимости, в котором безымянный голос внезапно обретает личность и немедленно оскорбляется. Показная легкость, с которой ведущий оборачивает выпады слушателей против них самих, вызывает необычный эффект — аудитория проникается неприязнью, но не к анонимному задире, который бросает трубку и навсегда исчезает из эфира, а к самому Чэмплену.
Виртуозность должна быть наказана. Или хотя бы осуждена.
В таком прочтении Talk Radio можно воспринимать как повествование о конфронтации массы и индивида. Звонящие безымянны и поэтому в полной мере могут воспользоваться свободой слова. Ведущий же пользуется ею лишь юридически, в соответствии с установившейся судебной практикой.
В контексте радиопрограммы он, в отличие от анонимных слушателей, выделяется в череде скандалов своей идентифицируемостью. К Чэмплену можно испытывать устойчивую симпатию или неприязнь, в отличие от подавляющего большинства его респондентов, про которых забывают сразу по окончании разговора.
Какими бы ни были собеседники ведущего: насильники, маньяки, наркоманы, расисты, антисемиты, гитлеристы, — их признания не стоят ничего рядом с человеком, обладающим именем.
Имя выделяет индивида из массы и позволяет испытывать к нему какие-либо чувства.
В случае «Полуночника» речь идет главным образом о неприязни.
Talk Radio Оливера Стоуна исследует проблему свободы слова в антагонистичной, антипатичной коннотации. Ведь независимость суждений проявляется не в согласии, но в противоречии. А поскольку происходящее помещено в рамки развлекательного шоу, Чэмплен облекает свои рекламации в максимально некорректную форму.
Задира-одиночка противопоставляет себя задире-массе. Но масса складывается из безымянных экземпляров, каждый из которых идентичен другому, поэтому выпады слушателей не воспринимаются как оскорбления. Ответы ведущего, напротив, квалифицируются со всей строгостью.
Некорректность, грубость, злость Бэрри Чэмплена задевают людей за живое, хотя он не изображает из себя приверженца каких-либо одиозных взглядов. Даже аргументы ведущего в поддержку легализации наркотиков к концу 1980-х скорее общее место, нежели крамола.
Что же так раздражает аудиторию, готовую каждый вечер слушать его шоу, скрипя зубами от бешенства? По всей видимости, конфликт рождается из самой невозможности массы принять свободу слова.
Такая свобода разделяется людьми поодиночке, но и здесь не обходится без нюансов, купюр и подводных камней. За индивидом стоят общество и государство, конституция и законодательство, гарантирующие смысловую и стилистическую независимость высказывания. Но в самой природе человека уже содержится стремление к коллективу (общественное измерение), который в любой момент готов превратиться в массу, где стерты индивидуальные различия и каждый может лишь присоединиться к общему реву.
Герой «Ток-радио» переживает непростой жизненный период после развода с женой. Он и сам с трудом выносит себя, поэтому страх Чэмплена, защитная реакция на внешнюю агрессию, нивелирован. С садомазохистским удовольствием Чэмплен бросается в эту игру с булавками под ногтями. И предсказуемо сталкивается с материализацией анонимной неприязни: его расстреливают на выходе из здания радиостанции. Даже упрятанная в радиоэфир свобода слова всё же находит своего мстителя, воспринявшего все смыслы Чэмплена с должной ответственностью и реализовавшего общее негодование.
«Слово может покалечить» — таков слоган картины Оливера Стоуна.
В правовом удушье
«Процесс» (The Trial, режиссер Орсон Уэллс, 1962)
В отличие о Talk Radio, привязанного ко времени и месту — США 1980-х, «Процесс» Орсона Уэллса использует американскую действительность лишь в качестве декораций. Это экранизация романа-притчи Франца Кафки, ускользающая от национальной или исторической конкретики. И тем не менее произведение Кафки, как и фильм Уэллса, поднимают важнейшую тему современного мира — удушье в правовых абстракциях. Растворение, напоминающее кататонический ступор.
Юриспруденция считается предельно конкретной дисциплиной, и юристы внимательнейшим образом следят за точностью формулировок. Однако для всех остальных их точность и вообще языковая практика представляются запутанной бессмыслицей. Причем эта кажущаяся бессмыслица возникает не в специальной области, например научной, а на территории самих дилетантов, отношения между которыми юриспруденция должна регулировать. Парадокс, но от современного человека требуется удовлетворять правовым нормам, в которых он способен разобраться разве что с помощью длительного и дорогостоящего участия специалистов.
Герой К. сталкивается с судебной машиной, он не понимает ни ее устройства, ни хотя бы предъявленного обвинения. На протяжении всего повествования К. пытается разобраться, но только крепче увязает в абсурде происходящего.
Примечательно, что главного героя не арестовывают, формально судебное преследование никак не сказывается на свободе его действий. Однако на самом деле оно полностью меняет жизнь К., вовлекая его в нескончаемую череду новых отношений. Таков эффект декларируемой свободы, которую правильнее называть мягкой диктатурой: вас как будто ничего не сдерживает, хотя в действительности ваши действия и намерения полностью регламентированы внешней инстанцией.
Кафка, а следом и Уэллс, изображают мир, в котором декларируемые правила обретают абсолютный статус и превращаются в верховного субъекта. А люди, придумавшие эти правила, — в объекты абсолюта. Индивиды, вынужденные существовать под диктатом юридических абстракций, даже не имеют возможности в них разобраться. Бедолаги вроде К. оказываются в роли животных, которые слышат неизвестные команды. Обязанные подчиняться, они могут лишь догадываться о значении команд.
До крайности усложненная судебная система больше не ограничивается тремя сторонами: обвинением, защитой и судьей. Этого уже недостаточно. Всё чаще привлекаются так называемые эксперты, без участия которых суд не может интерпретировать поступки участников конфликта.
Но если даже профессиональные юристы не в силах определить правовой статус событий, то почему судебная система требует этого от обычных людей?
Как человек может понять, что совершает преступление, не являясь ни юристом, ни экспертом?
Майкл Корлеоне, герой трилогии «Крестный отец», озвучил сентенцию своего родителя, главы мафиозного клана: «Друзей следует держать близко, а врагов — еще ближе». Как точно криминальная премудрость описывает действие Закона в прочтении Франца Кафки.
Обычный гражданин уже в силу законопослушности приближен к Закону, хотя между ними еще остается дистанция. Но со временем Закон устраняет и этот зазор, переводя гражданина по другую сторону правосудия, объявляя преступником. С этого момента Закон прижимает человека так крепко, как это только возможно. И прижимает всё сильнее, делая ближе и ближе, пока обвиняемый не умирает.

В конце «Процесса» К. убивают судебные исполнители. Герой так и не понял, в чем его обвиняли, как работает судебная машина и как следовало действовать, угодив в ее жернова. К. лишь всё глубже погружался в абсурд юридической бессмыслицы, тарабарщины на незнакомом языке.
Роман Франца Кафки и его кинопереложение Орсона Уэллса — пример наказания без преступления. Двенадцатью годами позже Луис Бунюэль продемонстрирует в «Призраке свободы» (Le Fantome de la liberte, 1974) его антипод — преступление без наказания. Убийцу, расстрелявшего прохожих из снайперской винтовки, приговорили к смертной казни, после чего немедленно отпустили на свободу. Суд состоялся, приговор вынесли, но не привели в исполнение. Это кафкианский «Процесс» с обратным знаком, в котором отсутствовали суд и приговор, зато в наличии наказание.
Современная юриспруденция далека от справедливости. Ее задача не честная оценка событий, а навязывание обществу своего диктата, который так же деспотичен, как любая другая диктатура.
Поэтому судьям запрещено указывать на нарушения, если на них не обратила внимания какая-либо из сторон. Чем и пользуются юристы кредитных организаций, преследуя частных должников, у которых обычно даже нет адвокатов.
Справедливость подменяется так называемой состязательностью. Хотя очевидно: никакой состязательности между крупной корпорацией и ее частным должником нет и, что еще важнее, состязательность — это всего лишь техническая реализация справедливости, она не обладает самостоятельной ценностью.
На суде всё переворачивается с ног на голову, как будто его задача не объективное разрешение конфликта, а поддержание игрового азарта сторон.
К. так и не сумел разобраться в правилах. Игра в «Процесс» началась слишком рано, а закончилась еще раньше. Герой Кафки и Уэллса умер прежде, чем зашел во врата Закона.
В оцепенении свободного падения
«Волна» (Die Welle, режиссер Деннис Ганзель, 2008)
Рассмотрев свободу слова и диктатуру закона (которую современная демократия экзотически понимает как одну из свобод), перейдем к свободе вообще. Фильм Денниса Ганзеля сложно отнести к авторскому кино, это вполне заурядная развлекательная картина со всеми характерными штампами и упрощениями. Тем не менее «Волна» затрагивает важнейшую тему свободы и оголяет противоречивость ее популярной интерпретации.
Сорокалетний левак Райнер Венгер, работающий учителем в школе, ведет недельный курс «Автократия». Чтобы заинтересовать учеников, он решает облечь занятия в игровую форму и объединить молодых людей в автократический союз с простейшими корпоративными атрибутами вроде дисциплины, унификации внешнего вида, товарищества, общей символики — словом, всего того, что на молодежном наречии принято называть фашизмом. Из бесформенного подросткового пластилина, мямлящего что-то глупое и невнятное, слушатели курса на глазах обретают строгость и стиль полновесной личности. Ленивая инфантильная разболтанность уступает место вдохновенному энтузиазму.
Фильм Ганзеля хорош тем, что расхожие клише обнажаются без всякой рефлексии, как будто их истинность давно не подвергается сомнению. Таковы толерантность и политкорректность, примененные к декоративным различиям, но мгновенно исчезающие по отношению к различиям более существенным.
Пара девушек уходит с курса Венгера: одна не понимает, почему должна отвечать преподавателю стоя, а другой не идет белая сорочка, выбранная большинством униформой сообщества. Причины исхода вполне весомые, ведь за белыми сорочками всегда следуют черные рубашки, а за дисциплинарным интерфейсом — черепомерки и газовые печи.
Интересно, как в сознании юных нонконформистов уживается подобная прозорливость с окружающей действительностью? Неужели поколение, живущее между «Макдоналдсом» и офисом, считает фашистскими униформу официантов и деловой этикет?
По всей видимости, такие коллизии героев не волнуют, что отражено, например, в сцене столкновения «анархистов» с приспешниками господина Венгера. Обиженные подростки, слушающие панк-рок, приводят сорокалетнего переростка в кожаной куртке с заклепками, который кулаками и увещеваниями про нацизм пытается восстановить справедливость. Но терпит неудачу, наткнувшись на пистолет.
Оруэлловское двоемыслие проявляется здесь во всей красе: когда объединяются анархисты — это анархия, когда объединяются их оппоненты — фашизм.
Эксперимент преподавателя продолжается. Он охватывает не только учащихся старших классов, но и других подростков, притягивая их духом товарищества, изъятым из либерального общества разрозненных эгоистов.
Подружка одного из героев, та самая, которой не пошла белая сорочка, пытается «остановить „Волну“» посредством интриг и диффамации. Симптоматично, что именно эта девушка выступает в фильме как положительный герой, предвидевший наступление фашизма. Авторов не сильно заботит моральный облик антифашистки — конфликтной и эгоистичной, не придающей никакого значения чужим чувствам и желаниям. Не вписавшись в новое сообщество, героиня не нашла ничего лучше, как начать с ним бороться.
Но борьба отверженной антифашистки никак не сказалась на «Волне». Кликушество героини никого не переубедило, финальная трагедия случилась совсем по другой причине. Недельный курс «Автократии» подошел к концу, и его ведущий, по совместительству глава «Волны», из харизматичного господина Венгера попытался снова стать Райнером. Однако масштаб единения перевесил частную инициативу: школьники с неодобрением восприняли окончание эксперимента. Один из них достал пистолет, которым отразил нападение «анархистов», и стал угрожать преподавателю, пытаясь вернуть его на место фюрера (от немецкого Führer — «лидер»). В конце концов школьник выпустил несколько пуль в одноклассника, после чего покончил с собой.
Что продемонстрировал эксперимент Венгера? Разве по замыслу ученики не должны были сами прийти к неприятию автократии вместо роспуска группы сверху тем самым лицом, которого они считали вдохновителем?
Вероятно, истерика девушки, которой не шла белая сорочка, олицетворяет светлое начало, гуманистическое предвидение катастрофы. Хотя очевидно, что действия героини лишь сплотили участников «Волны», как любое грубое вмешательство со стороны.
Имеет ли право свободный человек носить белую сорочку? А если сорочку носят все остальные, он всё равно может надеть ее, как свободный человек? А выбрать групповую символику разрешено, оставаясь при этом свободным? Национальный флаг, логотип рок-группы, товарный знак — это еще проявления свободы или уже признаки ее отсутствия? А может ли свободный человек поддержать приятеля или именно на основании его вхождения в твой ближний круг приятель не должен получить поддержку? Насколько же тернистый путь прошла гуманитарная мысль послевоенной Европы, чтобы сделать элементарные вопросы запутанными ребусами, нуждающимися в утомительной дешифровке.

Но проблема свободы не ограничивается упомянутыми частностями, как долго мы бы их ни перечисляли. Эта проблема заключается в том, что свобода подает себя не как принцип, а как код, унифицирующий свободных людей. Если вы не соответствуете коду, то автоматически исключаетесь из приличного вакационного пространства.
Вы свободны ровно в той мере, в какой похожи на других свободных людей… Скрытое, редко проговариваемое пояснение, которое полностью обессмысливает понятие свободы.
Любопытно, что именно «Свободой» называется праворадикальная партия Германии (Die Freiheit). Той же политической ориентации придерживаются Австрийская партия свободы (Freiheitliche Partei Österreichs), Партия свободы Нидерландов (Partij voor de Vrijheid), всеукраинское объединение «Свобода» и прочие национальные организации, каждую из которых современные люди бесхитростно относят к фашистским.
Запрограммированные свободой, либералы и демократы безапелляционно отказывают в ней всем остальным. Необязательно выступать против, достаточно всего лишь не походить на них. Фашизма в «Волне» не больше, чем в школьном педагогическом совете, что не помешало уязвленным ученицам атаковать курс Венгера, упрекая его в тоталитарности.
В целях сохранения свободы послевоенная демократия стигматизировала любые напоминания фашизма, которые при должной подготовке можно обнаружить везде. Причем демократам и либералам даже не приходит в голову, что кто-то видит свою свободу иначе, как, например, перечисленные праворадикальные партии.
Свобода индивида, по мнению авторов Die Welle, лишь в том, чтобы имитировать других свободных. Это рекурсивное понятие, берущее начало от самых первых не пойми откуда взявшихся свободных. А значит, обвиняя всех непохожих в фашизме, тоталитаризме или автократии (мало кто различает эти понятия), они незаметно выводят из-под обстрела самих себя.
Свобода в таком прочтении ничем не отличается от несвободы.
После стрельбы на последнем собрании «Волны» полицейские ведут закованного в наручники Райнера Венгера к машине. Он всё еще господин Венгер? Или просто Райнер? Недавно ушедшая супруга, преподаватели, ученики и их родители провожают учителя тревожными взглядами.
Господин Венгер?
Или просто Райнер?
Полицейские сажают его в машину. Они трогаются с места. Дома и деревья проплывают за окнами. Арестованный смотрит перед собой стеклянными глазами.
— Куда меня теперь? — спрашивает он шепотом.
— В другую школу, — отвечает сидящий рядом полицейский.
Господин Венгер едет в другую школу… Он снова в свободном падении… мчится навстречу новой свободе.
Эпилог обесчеловечивания
Рассматривая потребность в свободе, мы постоянно сталкиваемся с контрпродуктивностью усилий. Охваченный манией человек делает всё, чтобы отдалиться от объекта страсти. Иррациональный, алогичный и непоследовательный раб своих страхов и нелепых предрассудков.
Здесь уместно вспомнить биографию Элиаса Канетти «Спасенный язык». Центральное место в книге с подзаголовком «История одного детства» занимает мать писателя, что характерно для ребенка, рано потерявшего отца. Матильда Канетти выведена личностью экспрессивной, властной и до грубости бескомпромиссной.
Характерен эпизод, произошедший во время Первой мировой войны. Матильда Канетти принимает гостей, среди которых ведет яростную антивоенную агитацию. Войну она редуцирует до убийства, считая эти понятия синонимичными. Но первое слово, «война», Матильда не использует: слишком уж оно неприятное. Говоря о войне, дама называет ее иначе — убийством.
Среди гостей оказывает болгарский офицер, который тактично отстаивает иную точку зрения. Офицер отправлен в отставку из-за тяжелого ранения, которое до сих пор напоминает о себе невыносимыми болями. Все присутствующие знают о страданиях офицера, из-за которых он вынужден покидать приемы раньше остальных. И только пронизанная непоколебимым гуманизмом Матильда Канетти трактует уходы растерянностью: офицер не знает, как парировать ее доводы.
Однажды гость задает вопрос: будь он не болгарский, а русский офицер, который пожелал бы продолжать войну после выхода из нее России, как бы Матильда с ним поступила? Недолго думая, дама отправила офицера на виселицу: приспешникам войны, преступникам против человечества, не место среди живых.
Так замкнулся этот семантический фокус.
Объявляя войну убийством, то есть подменяя одно понятие другим, гуманизм Матильды Канетти, не раздумывая, отправил человека на смерть.
Даже не на войну, где всё же остается вероятность уцелеть (и немаленькая), а сразу к расстрельному взводу.
Нацистов обвиняли в обесчеловечивании жертв, но чем отличаются от них гуманисты вроде вышеозначенной дамы? Может быть, холостыми зарядами в винтовках? Или — кажется, это более точно — холостыми идеалами, которые они столь сбивчиво отстаивают?