Сумасшествие на заре человечества
Наши дальние родственники из первобытного мира воспринимали явления окружающей действительности через призму анимизма и тотемизма, а потому относились к сумасшествию с определенной долей уважения. Если кто-то из членов племени начинал видеть то, чего нет, либо вступал в разговор с невидимыми собеседниками, это считалось результатом воздействия духов — умерших предков или животных-покровителей.
Духи, согласно представлениям первобытного субъекта, вступали в контакт с человеком или вовсе овладевали им, заставляя делать странные вещи.
Историк религии Джеймс Фрэзер в «Золотой ветви» указывает на то, что «душа, по мнению первобытных людей, может временно отлучаться из тела, которое тем не менее продолжает жить». Из такого путешествия душа может вернуться поврежденной, если в ином мире ей повстречаются враги.
«Надо думать, доисторическое население земного шара обращалось со своими душевнобольными приблизительно так же, как современные жители тропической Океании или сибирских тундр: агрессивные и опасные больные считались одержимыми злым духом, безобидные и тихие — почитались иногда любимцами богов; первых гнали и порой избивали, за вторыми ухаживали», — отмечает психиатр Юрий Каннабих в работе «История психиатрии».

«Любимцами богов» считались шаманы. В рамках мифологического мышления бредовые высказывания могут рассматриваться как источник вполне релевантной информации: о том, как дела у умерших родственников, какими будут результаты охоты, на какие предзнаменования стоит обратить внимание. Религиовед Мирча Элиаде пишет, что «безумие будущих шаманов, их психический хаос означает, что данный профанный человек идет по пути исчезновения и что новая личность вот-вот родится». Он ссылается на представления якутов, согласно которым будущий шаман еще в юности «становится неистовым», часто падает в обморок, уходит в лес, наносит себе удары ножом, переживает видения. По якутским верованиям, во время экстатических состояний шаман попадает в иной мир, где видит распад собственного тела, расчленяемого темными силами. Проявившаяся психическая болезнь трактуется как ритуальная смерть — инициация, за которой следует перерождение.
Так или иначе, понятие психической нормы в том виде, в котором мы привыкли его воспринимать, в первобытной культуре не существует. Мифологическое отношение к безумию сохранилось в рамках народной религиозности и после появления христианства, продолжая существовать и сегодня в культурах коренных народов, исповедующих языческие верования.
Безумие в античности: проклятие и благословение
В античной традиции безумие часто рассматривалось как результат проявления всевластного и неотвратимого рока. Как пишет А. Ф. Лосев, и люди, и боги «стихийно и слепо» существуют в природном мире, не зная ничего о своей судьбе и гибели. Тем не менее божества (которые, кстати, тоже могли обезуметь) становились причиной людского сумасшествия, насылая его на смертных в порядке личной мести или вследствие какого-нибудь хитроумного плана. Персонажи мифологии и трагедий регулярно совершают в помутнении рассудка разрушительные деяния: Геракл умерщвляет своих детей, когда богиня Ата по велению Геры набрасывает ему на глаза повязку безумия, Афамант по воле той же Геры убивает своего сына, перепутав его с оленем, Аякс вырезает овец Одиссея, приняв их за своих врагов, а после лишает себя жизни.
Греческие философы стремились дать безумию теоретическое обоснование и найти его причины.
По мнению стоиков, душевные болезни — результат отклонения от божественного Логоса, к которому причастен разум. Таким образом, страсти и неведение (стоики полагали, что, познав разумный порядок, человек уже ему следует) провоцируют сумасшествие.
Платон в какой-то мере реабилитирует состояние «неистовства», разделяя два вида безумия: одно является следствием болезни, а другое посылается богами и может быть благословением. В диалоге Платона «Федр» упоминаются четыре типа «божественного отклонения от того, что обычно принято», каждому из которых соответствуют свои божества греческого пантеона. Пророческому экстазу покровительствует Аполлон, экстазу мистерий и ритуалов — Дионис, творческому вдохновению — музы, а любовному исступлению — Афродита и Эрот.

С тех пор возвышенная и романтическая трактовка безумия существует в европейской культуре параллельно с клинической. Безумие становится символом отрыва от привычного типа мышления, позволяя выходить за границы обыденного. Такую нестандарность мысли и готовность бросить вызов своему веку проявляют Дон Кихот Сервантеса и Гамлет, который притворяется безумным, чтобы «сорвать с мира его покров», как выразился Л. Пинский. Еще одна метафорическая трактовка связана с поиском истины и смелостью ее озвучить. В «Похвале глупости» Эразм Роттердамский отмечает, что «безумию дарована привилегия говорить правду, никого не оскорбляя». В этих случаях безумие ассоциируется с переходными этапами в обществе, когда именно «сумасшедшие» обнаруживают и делают видимыми новые парадигмы — например, становление ренессансного гуманизма.
Множество примеров позитивной мифологизации сумасшествия можно найти у романтиков, которые полагали, что помутнение рассудка может быть привлекательным. Поэтикой безумия живо интересовались (часто действительно зная его не понаслышке) Джордж Байрон, Уильям Вордсворт, Гофман и многие другие.
Поэт Сэмюэл Тейлор Кольридж писал: «О этот тонкий обман — притворяться безумными, когда мы на самом деле очень близки к безумию» (сам Кольридж как раз всячески стремился расшевелить воображение и чувствительность, чему способствовало пристрастие к опиуму). Впоследствии в эссе «Болезнь как метафора» писательница и философ Сьюзен Зонтаг язвительно отметила, что вклад романтиков в культуру состоял не столько в том, что они воспели красоту жестокости и эстетику ужасного, сколько в сентиментальной идее «интересного» нездоровья.
Как сходили с ума в Средние века и в эпоху Возрождения
Христианская церковь считала безумие божьим наказанием, а впоследствии — происками дьявола, который заставляет одержимых корчиться и выкрикивать бессмысленные фразы. В эпоху Возрождения, когда Европу захлестнула охота на ведьм, душевнобольные становились легкой мишенью для инквизиции. Этому способствовала булла папы Иннокентия VIII, в которой настоятельно рекомендовалось находить и предавать суду людей, уличенных в общении с демонами.
Вот пара примеров, которые приводит Юрий Каннабих:
В 1339 г. один испанец, объявивший себя братом архангела Михаила, был сожжен на костре в Толедо. Доктор Торальба в 1530 г. признался на суде, что у него в услужении находится некий дух или «гений», и за такое пользование нечистой силой был посажен в тюрьму на 3 года, после чего выдал письменное обязательство в отказе от услуг демона.
Тем не менее такого больного могли попытаться исцелить с помощью молитв, служб или манипуляций со святыми мощами.
Предприимчивые жители ренессансных городов часто препоручали сумасшедших паломникам или морякам, от которых требовалось увезти подальше всех, кто казался горожанам странным.
Анализ этой практики предлагает в «Истории безумия» философ Мишель Фуко, ссылаясь на документы о сумасшедших XV века, изгнанных из немецких поселений. «Корабль дураков» — популярный образ в искусстве Возрождения. Такие «корабли» были первым способом изоляции, который начал практиковаться в отношении людей с психическими расстройствами.

Существовала также сугубо медицинская точка зрения, выраженная в трудах Гиппократа и основанная на его учении о темпераментах. Гиппократ напрямую связывал душевное состояние с балансом жидкостей в организме: преобладание черной желчи, по его мнению, вызывает меланхолию, а избыток желтой желчи подталкивает к импульсивному маниакальному поведению. Это мнение вспомнили в эпоху Ренессанса, когда европейские мыслители с новым интересом обратились к античным трудам, в особенности тем, которые исследовали не только метафизику, но и физический мир.
Например, в 1621 году вышла энциклопедическая работа английского священнослужителя Роберта Бертона «Анатомия меланхолии», в которой он выделял три типа этого недуга. Головная меланхолия, по его мысли, происходит от нарушений в мозгу, телесная — от строения всего тела, а ипохондрическая — из-за проблем с кишечником, селезенкой, печенью и брыжейкой. Хотя Бертон упоминает гуморальную теорию, он также отмечает, что, кроме естественных причин, этот душевный недуг может постигать людей по произволению Бога или из-за происков дьявола.
Психики и соматики Нового времени
Две теории — соматическая (физическая) и психическая — определили развитие психиатрии в классическую эпоху. Спор был важным, потому что от него зависела судьба психиатрии: станет ли она философской дисциплиной, либо будет относиться к медицинским наукам.
В рамках физических теорий происхождения сумасшествия предполагалось, что душевные недуги имеют конкретный источник в теле. Ученые этого крыла полагали, что в основе всех душевных заболеваний лежат материальные изменения, которые можно обнаружить и запротоколировать.
Соматические воззрения развивались вместе с увеличением знаний по анатомии и физиологии, чему способствовал рост авторитета опыта и наблюдения. Например, в XVII веке французский врач Шарль Лепуа опроверг существовавшее ранее учение об истерии, причиной которой является матка: найдя схожие симптомы у мужчин, он предположил, что основанием истерических состояний является поражение нервов и мозговых оболочек. Английский медик Томас Уиллис, автор книги «Анатомия мозга», заключил, что в белом веществе содержатся фантазия и память, а в мозолистом теле — идеи.
Такой подход, который называют также органическим или соматическим, стал центральным для позитивистской мысли. Кристиан Фридрих Нассе, работавший в начале XIX столетия, считается одним из главных представителей соматической школы в психиатрии.
Существовало и альтернативное течение — школа «психиков», которая противостояла «соматикам». Если прежде говорили о происках дьявола, теперь основой для метафизики порока и греха стало «злое начало».
Учение Канта об абсолютном духе и морали вызвало в научной мысли и в том числе в психиатрии большой интерес к вопросам свободы воли и дало основания думать о мире как о продукте духовной деятельности.
Иоганн Хайнрот, резко противопоставлявший тело и дух, считал, что человек может выбирать между «добром» и «злом». Именно Хайнрот ввел в обиход термин «психосоматика». По его мысли, дурной и порочный дух приводит к заболеваниям внутренних органов. А его коллега Карл Вильгельм Иделер полагал, что психозы — это следствие разросшихся страстей, с которыми можно бороться, воздействуя на «свободную человеческую волю».

Лечение психических заболеваний в классическую эпоху
Теоретические объяснения природы психических расстройств напрямую влияли на отношение к людям с этими заболеваниями и на методы лечения.
С формированием естественно-научного подхода к лечению психических заболеваний появляются специализированные изоляторы, предназначенные для содержания душевнобольных. Считается, что первые больницы такого типа возникли в Испании XV века, в Валенсии. На это указывает «Исторический и географический словарь» Паскуала Мадоза. Впоследствии больницы такого типа появились в других испанских городах, а век спустя — в Германии, Швейцарии и Швеции. Несмотря на то что эти учреждения, как отмечает Юрий Каннабих, не преследовали лечебной цели, а людей там содержали в оковах, по сравнению с перспективой оказаться в руках инквизиторов это было хоть каким-то прогрессом.
Практика целенаправленной изоляции душевнобольных начинается с XVII века и утверждается в XVIII. Условия содержания больных в психиатрических клиниках оставляли желать лучшего. Просвещенные современники оставили многочисленные свидетельства того, что люди там содержались в грязи, в оковах, в одиночных камерах, куда почти не проникал свет, либо в переполненных бараках, где царила антисанитария. «Мы запираем этих несчастных созданий словно преступников в сумасшедшие дома, в эти вымершие тюрьмы за городскими воротами, где в глухих расщелинах поселились совы, и оставляем их там загнивать в собственных нечистотах», — писал последователь идей соматиков немецкий психиатр и физиолог Иоганн Христиан Рейль.
Зачастую главным методом лечения оставалась «дисциплина»: в ходу были практики обездвиживания, телесные наказания, использование ледяного душа, прижигание каленым железом.
Школа психиков породила целую «механизированную терапию», которая широко использовалась, в частности, в Германии: маска, не позволявшая кричать, мешок, который надевался на голову, смирительные стулья и кровати, вращательное устройство. Предполагалось, что больной от таких воздействий поймет несостоятельность своих заблуждений, воспитает волю и перестанет буйствовать. К тому же представители этой школы считали, что болезнь в значительной мере является следствием распущенности или моральной неустойчивости, а значит, больной должен понести наказание.
С начала XIX столетия в Европе прошли больничные реформы, которые несколько облегчили положение людей с психическими расстройствами. Откровенно пыточные методы уступили место более мягким практикам вроде применения смирительной рубашки (по сравнению с цепями это было существенным прогрессом). В том же веке «система нестеснения», разработанная британским медиком Джоном Конолли, декларировала отказ от связывания, а для людей в острых состояниях предложила изоляторы с мягкими стенами. Шотландский психиатр Б. Тьюк пошел дальше и изобрел систему «открытых дверей», предполагающую отказ от любых решеток и замков, а также возможность для пациентов покидать учреждение.
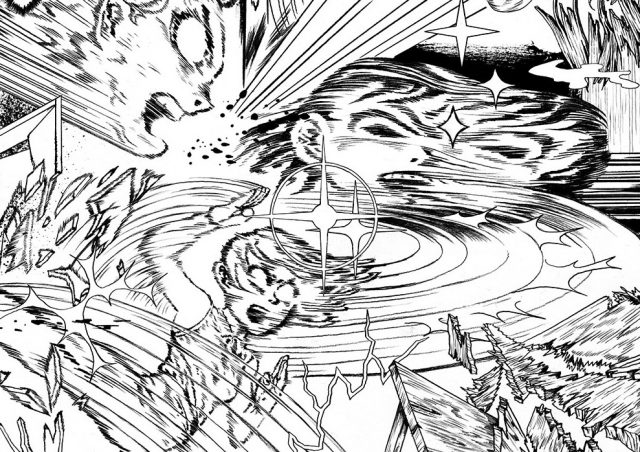
Однако к началу ХХ века движение за гуманизацию угасло, и надзирательная психиатрия всё-таки победила этичную.
В это время, как отмечается в разделе «Общей психиатрии» под редакцией А. С. Тиганова («Организация психиатрической помощи»), в разных странах мира активно строились психиатрические госпитали. Если в европейских странах предпочитали строить комплексы павильонов, то в Америке — большие многоэтажные задания. Переполненные клиники, в которых люди находились подолгу, представляли собой довольно мрачное зрелище — существенных реформ система дождалась только к середине столетия.
Отдельного упоминания заслуживает отношение к женщинам с психическими расстройствами (реальными или воображаемыми). Женщины из высшего и среднего класса, страдающие от недостатка физической активности и возможностей для саморазвития, неудобной одежды и невнимания врачей к их реальным проблемам (в викторианской Англии, например, гинекологи зачастую осматривали дам, вежливо отвернувшись) имели все основания для того, чтобы впасть в депрессию. Однако диагносты не смотрели на условия, а апеллировали к специфической женской природе. Так появились термины вроде «истерии», «слабой конституции», «расслабленности». В ситуации, когда субъектом, формирующим научное и социальное понятие нормы, являлся мужчина, психически больной могли объявить любую женщину, чье поведение не укладывалось в представления о правильном.
Принудительное лечение использовалось как способ пригрозить участницам женского движения.
В «Петербургской газете» 1912 года корреспондент из Лондона сообщает о том, как суфражистка напала на министра и «изломала его шляпу», после чего констатирует, что тюрьмы, куда заключают участниц женского движения, «не исправляют» их: «Общественное мнение в Англии страшно возмущено подобными преступными действиями суфражисток и требует сажать их не в тюрьмы, а в дома сумасшедших». В тюрьме, а после голодовки — в психиатрической клинике оказалась, в частности, американка Элис Пол, боровшаяся за право женщин голосовать. Освещение этого события в прессе привело к тому, что всеобщее избирательное право всё-таки было принято.
Новый взгляд на психические расстройства
Общественные организации стали всё активнее бороться за соблюдение прав человека, что сказалось и на ситуации вокруг клиники. В 50-х годах появилось антипсихиатрическое движение, работа которого способствовала закрытию множества психиатрических лечебниц и переводу помощи больным на амбулаторные рельсы. Со второй половины ХХ века появились и вошли в медицинскую практику антипсихотические препараты (нейролептики) и антидепрессанты, которые стали применяться совместно с психотерапией.
Разговор о безумии приобрел новые смыслы: речь пошла не только об этике, но и о философской переоценке самих оснований «разумности».
В центре внимания социальных и гуманитарных наук оказалось изучение структур — масштабных теоретических моделей, включающих совокупность связей и отношений. Вскоре назрел вопрос о том, как существующие в обществе структуры — невидимые, но в то же время довлеющие — сковывают человека. В результате для структуралистов стало важным обсуждение того, что является безумием, а что — нормой, и того, как норма устанавливается.
Мишель Фуко обратил внимание на то, как происходило это конструирование: в период с XVI по XVIII век возникла репрессивная система, которая изолировала тех, кто мыслит и ощущает не так, как другие. Безумие было противопоставлено новоевропейской рациональности, которая обозначала себя как норму. Оно воспринималось не только как социальная, но и как философская угроза, ставя под вопрос связь личного чувственного восприятия и истины. С точки зрения Фуко, стремление к каталогизации, упорядочиванию, разделению — это не только способ познания, но и способ проявить власть, овладеть хаосом.
Цитируя Декарта, который, рассуждая о познавательных способностях, походя упоминает безумцев, противопоставляемых ему самому, Фуко отмечает, что именно так в общественном сознании происходит демаркация: они не мы, а мы — не они. Потому и потребовалось исключить «ненормальных» из общества, поместить их туда, где те подвергаются исправлению через надзор и дисциплину (то же самое можно сказать обо всех учреждениях социальной нормализации: школах, тюрьмах, армии).
Жак Деррида выступил с критикой Фуко, предположив, что всё куда более запущенно: разум может быть безумен в своем стремлении к упорядочению. Стремление к классификации походит на симптоматику обсессивно-компульсивного расстройства, а активное отстаивание принципов рационального мышления может напоминать маниакальность.
По мнению Деррида, структура безумия и сумасшествия устроена сложнее, чем предполагают жесткие культурные коды, которыми оперирует сам Фуко, пусть даже выступающий против репрессивных практик.

С опытом изучения других культур выяснилось, что понимание безумия может отличаться от общества к обществу. Существует даже такое явление, как культуральный синдром — форма патологического поведения, которая характерна для какой-либо страны и почти не наблюдается в других культурах.
Скажем, японский культуральный синдром тайдзин кёфусё заключается в страхе оскорбить окружающих взглядом, запахом или действиями. Частью общего национального этического кодекса японцев является стремление не доставлять другим людям беспокойства и неудобства (мэйваку).
Причинить мэйваку могут разговоры по телефону в общественном месте, сильный запах парфюма и косметики, публичное проявление переживаний. Таким образом, опасение оказаться неудобным или раздражающим находит подтверждение в культуре, где всё вокруг убеждает: не привлекай к себе внимания, будь тихим, пахни нейтрально.
По словам специалистов, расстройство в виде множественной личности практически не встречается в азиатских культурах, склонных к коллективизму. А вот западная склонность к индивидуализации предполагает реакцию на травму умножением личности (и готовность диагностов обнаружить такое расстройство).
Так где же норма теперь?
Сегодня существует ряд подходов к тому, что называть психической нормой, но ни один из них не предоставляет исчерпывающего ответа.
Статистическое понимание нормы предполагает, что существует диапазон значений, который измеряется по среднему индивиду. Там, где значения выходят за пределы средних показателей, можно предположить акцентуацию. Выделяют также пограничные состояния, которые располагаются между нормой и патологией. Однако даже зная средние арифметические значения, нельзя поставить диагноз или утверждать, что требуется коррекция. Например, статистической нормой не является асексуальность, однако существуют люди, которые не испытывают влечения и комфортно ощущают себя без сексуальных контактов.
Идеальное представление о норме предполагает, что существует идеальный образец состояния, к которому нужно стремиться. Такая точка зрения несет на себе печать субъективности, поскольку параметры идеального формируются определенным дискурсом и конкретной группой лиц.
Нетрудно догадаться, что в реальности идеального субъекта не существует — на то он и идеальный.

Адаптационная точка зрения предполагает, что нормой является то, что позволяет индивиду лучше приспособиться к текущим условиям. Но в современном мире условия меняются быстро, а наша психофизиология часто за ними не поспевает. Скажем, потребность наших предков наесться впрок (кто знает, когда удастся поохотиться в следующий раз?) приводит сегодняшних горожан к карусели невротического обжорства, быстрого вознаграждения и депрессии.
Говоря о расстройствах сегодня, в первую очередь принимают во внимание то, является ли человек дисфункциональным (может ли добиваться целей) и не наносит ли вреда себе и окружающим. Также специалисты предполагают, что легкие расстройства, которые можно проработать с психологом (нарушения воли и внимания) есть у всех, просто многие предпочитают игнорировать их или бороться самостоятельно. Такие расстройства могут и не перейти в следующие регистры — невротический (навязчивые состояния при сохранении критического взгляда на них) и психотический (галлюцинации, бредовые состояния), — но если такое произойдет, уже потребуется помощь психотерапевта и психиатра.
Так или иначе, вопрос соотношения патологии нормы не выглядит таким однозначным, как когда-то. Даже общего определения сумасшествия, исходя из признаков, не существует, поскольку психические расстройства разнообразны по проявлениям и симптоматике.
Из-за лучших побуждений «классической эпохи» в популярной культуре прочно закрепился образ психиатрической лечебницы как мрачного и жуткого места, а не общественного центра, где человек с ментальными проблемами может получить поддержку. Поэтому многие люди, нуждающиеся в помощи, не решаются пойти к специалисту из-за недоверия и опасений. В особенности это актуально для стран, где всё ещев ходу дисциплинарные методы.
Тем не менее современные квалифицированные психиатры опираются на гуманистические принципы и профессиональную этику. Сегодня в мире набирает силу психоактивизм — движение, которое стремится исследовать границы нормы, сделать психические заболевания обсуждаемыми, а отношение к ним — спокойным и вдумчивым.
Выходят, в том числе и в России, новые научно-популярные книги о ментальных расстройствах и нейроотличиях. А это значит, что мы все получаем шанс не оказаться за стенами — бетонными или невидимыми — если что-то вдруг пойдет не так.
