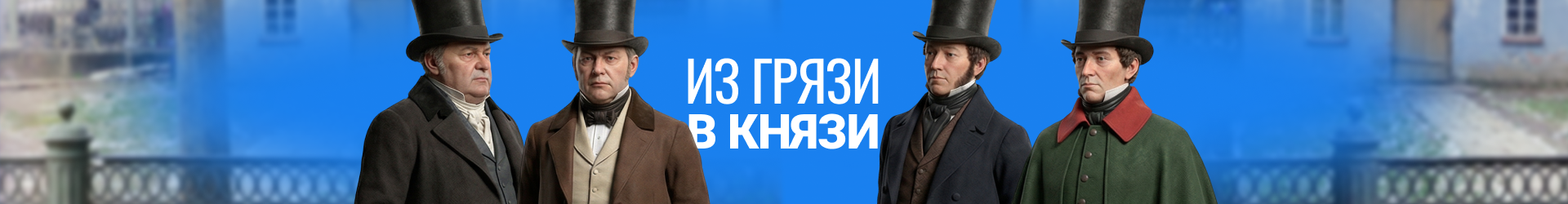Осьминоги под MDMA: как одна вечеринка головоногих потрепала наше представление о себе
Двупятнистых осьминогов Octopus bimaculoides природа наградила смурным и агрессивным характером. Они не только мизантропы, но и циники: любовь и заботу к ближним проявляют только во время спаривания. Ученые из Университета Джона Хопкинса сотворили для моллюсков чудо просоциальности, накачав их MDMA. Что это говорит о людях?
Моллюски под кайфом
При всей асоциальности химия социального поведения у осьминогов в порядке: природа наградила головоногих системой с серотонином, эволюционно древней молекулой, ответственной за хорошее самочувствие, ощущение счастья и просоциальность. Проанализировав геном Octopus bimaculoides, исследователи нашли интересное: ген, который кодирует белки, перемещающие серотонин в мозге, у них до страшного похож на аналогичный человеческий ген SERT.
Так и родилась идея погрузить осьминогов в волшебную вселенную экстази. Наркотик выбрали не из-за любви к волшебству и рейвам: путь MDMA в мозг проходит через транспортировщики серотонина, и концентрация этого нейротрансмиттера в отдельных участках мозга повышается.
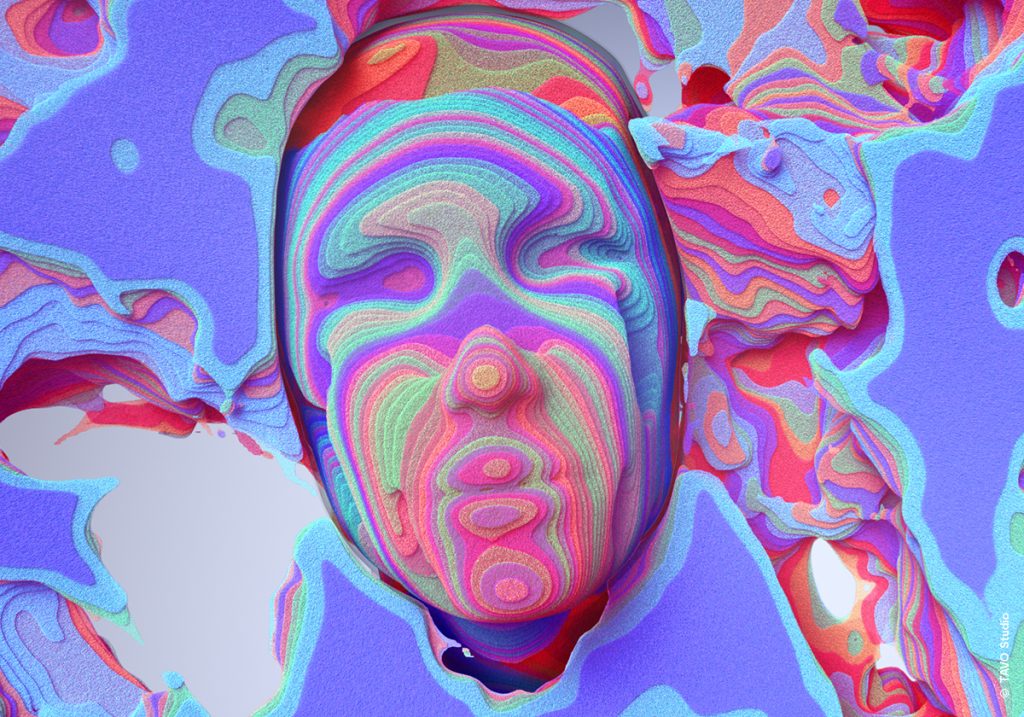
Потому hug drug хитро манипулирует восприятием: вползающий в клуб тинейджер под экстази не замечает недовольное лицо фейс-контрольщика, но зато сразу видит счастливую мордашку напарника. MDMA снижает его умение считывать негативные стимулы и повышает точность декодирования положительных. Увеличивая уровни окситоцина и пролактина в плазме, наркотик делает тинейджера более открытым и доверчивым, усиливает его эмпатию и просоциальное поведение в целом.
Вышеперечисленное работает для разных млекопитающих, например мышей и крыс. Насчет осьминогов уверенности не было, так как у них совсем иная архитектура мозга. Точнее, мозгов: у моллюска нет мозговой коры, а вместо локализованного центра — децентрализованная система с отдельными штабами для каждого щупальца.
Из всех беспозвоночных осьминоги поведенчески наиболее развиты и сообразительны (проходят лабиринты, решают головоломки, узнают фигуры и людей).
Гюль Дёлен, нейробиолог Университета Джона Хопкинса, руководивший экспериментом, отмечает, что мозг осьминога ближе к мозгу улитки, чем млекопитающего: нас с ними разделяют аж полмиллиарда лет эволюции.
Чтобы проверить, как работает биохимия социальности у Octopus bimaculoides, ученые не стали заталкивать в головоногих цветные таблетки, а поместили их в ванночки с MDMA и буквально пропитали любвеобильностью (десять минут водных процедур для осьминога — всё равно что десять минут ингаляции для человека). После ванны подопытных на 30 минут отправляли в аквариум с тремя отсеками для свободного блуждания. В одном из них помещался еще один осьминог, помещенный в пластиковую бутылку или орхидейный горшок, дабы избежать потенциальной борьбы. В другой камере красовалась обманка: так же заточенные в бутылку или горшок привлекательные объекты, среди которых юморные исследователи поместили не только цветные наполнители, но и статуэтки галактических героев вроде Чубакки.
После обмазывания MDMA осьминоги проводили в нейтральной комнате столько же времени, сколько и без допинга, а вот пребывание в остальных отсеках кардинально поменялось.
Новыми объектами они интересовались куда больше, что связано еще с одним эффектом наркотика: стимулируя синаптическую пластичность и воздействуя на BDNF (ген, поддерживающий развитие нейронов), он способствует обучаемости.
Время, проведенное с сородичами, в целом тоже возросло, но не только — изменилось и качество общения.
Обычно осьминоги не приближаются к собратьям на расстояние вытянутой руки, но под MDMA они перешли к активному вентральному контакту: ощупывали, изучали и исследовали других. Как предполагают ученые, общительность головоногих, если им не нужно срочно завести потомство, подавляется за ненадобностью, а MDMA просто освобождает заблокированные нейронные механизмы. Причем не только просоциальные, но и ответственные за счастье (серотонин есть серотонин): в трипе моллюски, экстатически раскидывая щупальца, выделывали па на манер водного балета, исполняли сальто и кайфовали от запахов и звуков.
Не изменился только врожденный сексизм Octopus bimaculoides: к самке в социальной камере осьминоги стремились самозабвенно, а вот если там оказывался самец, ему предпочитали Чубакку.
Люди в смятении
Мы уже привыкли, что чем больше ученые вкапываются в мозг, тем прозаичнее становится картинка нашего внутреннего мира: эмоции = работа лимбической системы, страстная влюбленность = взрыв гормонов и нейротрансмиттеров, а сакральную любовь-пока-смерть-не-разлучит-нас можно запросто объяснить тонусом дофаминовой системы, прилежащего ядра, вентральной покрышки среднего мозга и вентрального паллидума. Заголовки научных статей в духе «ученые измерили счастье», кажущиеся чистой ересью, легко поддаются адекватному переводу: «ученые измерили уровень серотонина, окситоцина и дофамина».
Эксперимент с осьминогами, у которых начисто отсутствует мозговая кора и сложная система вознаграждения, показал, что механизм социальности до смешного прост и сводится к биохимическому «щелчку».
Но не только это. Пути млекопитающих и головоногих разошлись 500 млн лет назад. На протяжении этого времени длинный и замысловатый эволюционный путь, казалось, вел нас к высокоразвитой социальности, а Марка Цукерберга — к его миллионам. Теперь выясняется, что сделать нас социальным видом — это вовсе не цель эволюции и даже не ее достижение.
Сегодня кое-какие эволюционные виды показывают не меньший, чем мы, энтузиазм по части социального: муравьи отлично разбираются в рабовладении и, в случае опасности для собратьев, могут совершить жертвенное самоубийство; обезьяны бонобо «шарят» в акушерстве, слоны — боги эмпатии и, вероятно, даже знают, что такое смерть (а как пишет психолог Эрнест Беккер, вся человеческая цивилизация может оказаться лишь механизмом психологической защиты от осознания собственной смертности).

По части простого повседневного общения большинство животных и насекомых уделывает homo sapiens: они способны к разнокалиберной коммуникации (муравьи в отличие от нас общаются аудиовизуально, тактильно и химически) и к межвидовому общению (собаки нас понимают, а мы их — нет).
Исследования в области генетики убедили мир, что стереотипная эволюционная линейка «от меньшего к большему» устарела, и визуально представлять эволюцию лучше в виде круга, где гордый мужик homo sapiens — лишь часть единого целого.
У эволюции действительно нет ни цели, ни плана, и вся природная целесообразность — лишь хитро устроенная оптическая иллюзия. Как любит напоминать эволюционный биолог и «дарвиновский цербер» Ричард Докинз, дело — в трех базовых механизмах, которые из миллионов вероятностей создают одну кажущуюся невообразимость: изменчивости, естественном отборе и наследственности. Изменчивость приоткрывает двери случайным изменениям: потомство любого существа априори отличается от его родителей. Если такое случайное изменение оказывается конкурентным преимуществом, то существо не истребляется средой и доживает до репродуктивного периода (ЕО), а наследственность закрепляет случайный признак на уровне популяции. Ловкость рук — и никакого целеполагания.
Разумные и высоко социальные с точки зрения природы мы — лишь набор удачно собранных переключателей даже там, где дело касается сложного взаимодействия друг с другом и с самим собой.
Пожалуй, единственное, что вывозит наше самомнение и самоуважение, — это то, что никак не относится к эволюции и природе вообще: искусство, культура, музыка, продукты потока идей и т. д. Это бессмысленное и в то же время единственное, что наполнено для человека смыслом, некоторые ученые называют эмерджентными свойствами систем, то есть свойствами, характерными для систем в целом, но не принадлежащими ни одной из отдельно взятых их частей.
Сознание, как поговаривают некоторые, — тоже не более чем эмерджентное свойство сложноустроенного мозга. Красивый исход бесцельного брожения случайностей.