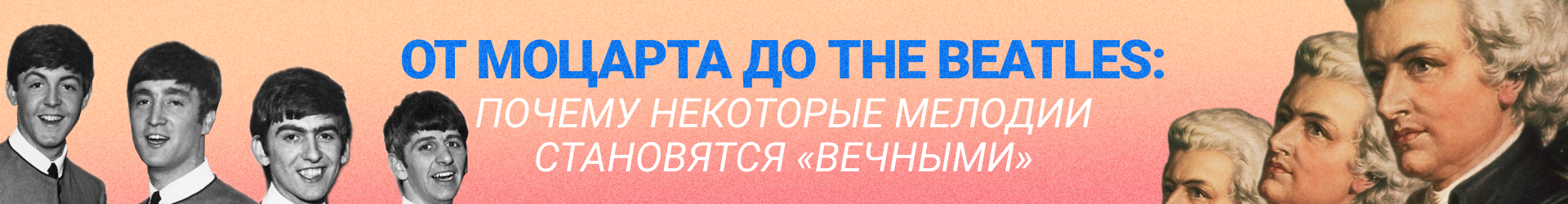Уснувший в медине: что скрывается в сердце старого марокканского города
Никакие экскурсии и посты тревел-блогеров не покажут настоящей жизни древних городов. Писатель, путешественник и музыкант Фил Волокитин рассказывает, как почувствовать себя своим в чужом городе, увидеть то, что недоступно обычным туристам, а также объясняет, что общего между старыми кварталами марокканского Феса и ленинградской коммуналкой.
Любая попытка тщательно исследовать старые кварталы марокканского города Феса неизбежно разбивается о желание свалить в самый интересный момент.
Самый интересный момент — это когда узкая полоска неба над крышами становится черной, восходит зловещего цвета луна, а местные вас уже напугали антропоморфным муравьем, живущим в самых недрах медины.
Дело, конечно, не в муравье, а в том, что лишь на третий день ты понимаешь: это время самое интересное. У туристов мало времени на такую медину. И медина не может помочь торопыгам ничем.
В полной неосвоенности настоящей медины убеждаешься, прочитав жидкие, будто баланда, отчеты блогеров типа Лебедева. У них там не медина, а сплошной овин за сараем. Один не может выбраться из этого овина в течение пары часов, другой боится цыган, которые, разумеется, никакие не цыгане, а берберы. Но медина не обижается из-за путаницы. Она обижается на торопыг.
Торопыг в медине чувствуют за версту — презирают и выгоняют. Чаще всего это происходит следующим образом. Идешь себе, продираясь через бесконечные лотки со съедобными кактусами, они же опунции. Вдруг тебе преграждает путь злющий мужик. «Медина закрыта, — гремит его голос, — нечего смотреть. Быстрее отсюда, идем со мной, я выведу». И выводит. За сорок дирхамов. И он прав. Нефиг смотреть, если торопишься.
Правильно сделать так: храбро отодвинуть мужика в сторону и идти дальше. На твое место встает мудрая старая немка, одна из немногих европейских туристов, которых я увидел здесь в июле. «Что же ты вредный такой дяденька, — укоряет она закрывальщика медины, ласково глядя ему прямо в глаза. — Вот смотри, дорогой, у меня кошелек. В нем сто дирхамов. Больше нету». Мужчина извиняется и уходит. Что ж, покладистость тоже вариант.
Денег у меня было и того меньше. Зато было много времени. Пока жена-библиотекарь втолковывала наиболее продвинутым детям Марокко, чем отличается Коран от «Дневника слабака» и книг про Капитана Подштанника, мне приходилось гулять вплоть до появления зловонных испарений из кожи. За пределами медины от волос уже воняло так, что жена заставила купить феску. На следующий день феска истлела на голове за десять часов, потому что медина, сложенная из многочисленных глинобитных брикетов, чуть дырявых и завешенных простынями, практически не проветривается.
В общем, в первый заход так и наворачиваешь круги по этим дырявым брикетам, петляя, прячась от закрывальщиков, дурак дураком. На второй день ты такой же дурак, только в феске. На третий я уже заночевал, но не смог сомкнуть глаз от постоянно бегающих по спине мурашек — все-таки ночью там страшно.
И только на четвертый день, устав, я задрых благополучно и счастливо. В медине. А проснувшись, понял, что люди вокруг наконец стали людьми, а не экспонатами краеведческого музея.
«Как меня зовут?» — спрашивает бородач в ночной рубашке. «Мустафа», — отвечаю я и, поежившись, вспоминаю, что перед сном пил с Мустафой воду из одной чашки. Чашка была серебряная. По крайней мере, казалась такой поначалу. Но, допив теплую воду до дна, я обнаружил дряхлое керамическое дно и дохлого слизняка, страшного и полосатого, будто галстук. Вряд ли этот слизняк выполнял функцию оливки в мартини. Хотя, может, и да — алкоголь в Марокко запрещен, оттого иллюзорен и напоминает культ карго. Так, брутальный настой мяты здесь называют «виски». Выпивая этот «виски» залпом, ты чувствуешь легкое недомогание, которое затем перерастает в боевой дух. Поэтому настоящий виски здесь и не нужен. Какая, в сущности, разница, если боевой дух появился?
Другой мой новоприобретенный друг торгует супом из подозрительных улиток. Я не могу отделаться от мысли — вылитый француз! Но нет, не француз, конечно. Всё же люди там прекрасны и самодостаточны. Это чувствуется всякий раз, как только начинаешь их сравнивать с французом или еще с кем. И опять по спине бегут мурашки — на этот раз по мере того, как доедаешь этот скользкий суп, а улитки разбегаются от тебя, так и не проварившись должным образом.
Тем, кто не может справиться с мурашками, могу дать хороший совет — внедряться в медину постепенно, выбираясь наружу, как только приспичит высунуть нос ради свежего воздуха.
Отчасти это занятие напоминает подводное плавание. Спускаешься на самое дно. Выныриваешь, пытаешься отдышаться, проплевываешься, вытираешь глаза. И сразу обратно. Смотришь на всё происходящее, на людей с их занятиями как на раков или на медуз. Подводный мир, сука, чужой, непостижимый и оттого так притягивающий.
Вот только для того, чтобы периодически выныривать, нужно хорошо знать эту семидесятикилометровую кишку, наполненную пожирателями опунций. Удивительно, но в ее запутанной структуре можно отыскать, скажем, несколько площадей — просторных, открытых, проветриваемых. И можно даже выйти к реке — если не перепутать ее с говностоком. Впрочем, говностоком река Фес кажется только на первый взгляд. Если приспичит, в ней можно даже помыться.
Вопреки всем отчетам блогеров-торопыг в настоящей медине никогда не торгуются. Торгуются только в туристическом пристенке рядом с воротами; дальше начинается резкий спуск и кровь стынет в жилах. Цены здесь, на самом дне и дальше, разумеется, отличаются в десятки раз от тех, что у ворот Баб-Бужелуд. Оттого в настоящей медине торговаться нет смысла — мельче половины дирхама монеты всё равно нет.
Главное блюдо медины вовсе не кускус, а подозрительные красные голубиные сосиски, которые сердитые люди стригут маникюрными ножницами прямо в хлеб. Рядом специально обученный человек скручивает этим голубям шеи. Голуби в ход идут самые обычные, городские, мамоновские. И всё это можно увидеть в медине только на самом дне. Там сувениры резко заканчиваются. Начинаются сплошные кактусы-опунции, папиросы поштучно, простокваша и сырники. Иногда мелькает на радость дико выглядящий водонос, но, догнав его и разговорившись на английском, ловишь его на том, что водонос этот ряженый и работает на ЮНЕСКО. Английский здесь не в ходу.
Из повседневной одежды в медине чаще всего встречается паранджа, красивая и непроницаемая, так что все пыхтят из под шелков на манер Дарта Вейдера. В штанах, в футболке тоже, впрочем, можно ходить — не возбраняется.
Вкус, мода — здесь это тоже в порядке вещей. В отличие от иного мусульманского Востока от Турции до Судана, главное не стремиться покорить медину полосатыми шароварами, называемыми здесь гаремными (а не янычарскими, как везде). Пусть эти янычарские штаны и продают за эквивалент двух долларов, но носить их — развлечение для детей, играющих в параллельные вселенные. Эта одежда не повседневная, а нечто вроде маски Человека-паука или шляпы Зорро в игрушечном отделе супермаркета. «Вы в них чрезвычайно похожи на Обеликса», — доложил клюнувшей на двухдолларовые гаремные штаны жене продвинутый пацан из библиотеки. И засмеялся так, что подавился голубиной сосиской.
Если бы у меня было больше времени, я бы надел паранджу и штопором ушел бы на самое дно, не отвлекаясь на оклики «мсье» и «мистер». Правда, денег на паранджу нет. Рожей я напоминаю колонизатора. И все-таки, несмотря на европейскую рожу, мне помогают. На шестой день уже вся семидесятикилометровая медина знает, что я спал в ослином дерьме. «У тебя большое сердце», — говорит Мустафа. Я стеснительно морщусь от этого «большого сердца», но все-таки мне приятно.
Город, разумеется, делают городом не достопримечательности, а люди. Достопримечательности попадаются в медине лишь поначалу — медресе, мечети, ворота. Кроме ворот, в эти места чаще всего пропускают не дальше туалета, на которые, впрочем, тоже интересно посмотреть: туалеты здесь с живыми уточками и карасиками. А там дальше уже люди — те, что сворачивают шеи голубям и поливают водой гниющую голову дохлого верблюда.
На первый взгляд, они совершенно непостижимы. Но я прожил в старой ленинградской коммунальной квартире несколько лет. И понимаю, что общественное поведение коренных обитателей коммуналки и фесской медины в основном совпадает.
Вот, например, в людном месте сидит прямо на куче затвердевшего ослиного говна человек в хорошем костюме. Он хитро глядит на всё происходящее. Он часть медины, жизни в ней, несмотря на отутюженный костюм, который отличает его от бурнусов и ночных сорочек. Я его понимаю. Точно так же сидела в накрахмаленном подвенечном платье старуха Бачманова у нас в коммуналке. Только сидела она между туалетом и комнатой презираемых алкашей. И тоже хитро глядела на всех спешащих в туалет алкоголиков: вот, мол, ребятки, до чего меня жизнь довела в моем свадебном платье.
Вместо головы верблюда в нашей коммуналке один слепнущий майор в отставке неделю вываривал собачью голову, заливая ее кипятком, чтобы сделать клей по старинным рецептам. Такой клей он варил сутками и продавал по ночам бог знает кому, нормально при этом навариваясь. Здесь, в медине, тоже много чего продают по ночам и тоже самое бесполезное: веревочки, винтики, деревянные шпунтики. И зарабатывают, пожалуй, побольше, чем бегая за туристами в светлое время суток.
Как у нас в коммунальной квартире уходили на программу «Время», здесь уходят на молитву, бросая все дела, будь то торговля или мытье посуды. Некоторые в коммуналках никогда не заводили часы — телевизор ведь разбудит не хуже. В медине тоже ни у кого нет ни часов, ни интереса ко времени, а вместо всего этого есть муэдзин. У нас останавливали часы и уходили смотреть программу «Время» в девять вечера, а здесь ходят в мечеть, к муэдзину — небольшая, в сущности, разница.
Проведя должным образом в медине целый день, от восхода до полуночи, начинаешь чесаться. И в коммуналке моей было точно так. Непроветриваемый коридор, жирное окно с промытой наспех загогулиной для контактов с внешним миром. Девушки с длинными ногтями наутро чесались не пальцами, а ножом, потому что после ночи, проведенной там, по-другому это не прочесывалось. Но потом почему-то возвращались обратно.
Тоже хочется возвращаться сюда иногда. Поэтому я прусь в знаменитые красильни. Может быть, получится подзаработать.
На краю бетонного тазика мрачно курит обгоревший на солнце пожилой джентльмен.
— Почему ты вчера убежал? — спрашивает он меня на идеальном английском.
Объяснять долго. Испугался английского языка, который здесь не в моде?
— Давай я тебе расскажу про красильни.
— Покажи мне лучше, как ты это делаешь?
— А как бы это сделал ты? — хитрит он.
Я залезаю по пояс в смесь мочи и карбида с красителями и начинаю полоскать в нем всё что под руку попадется.
Красильщик бледнеет.
— Нет, не надо хватит, прекрати. Я серьезно. Тебе нельзя. У нас профсоюз.
И это тоже Фес.
Расстаемся друзьями.
Нельзя — ну и пускай. Выжить в медине можно и без тяжелой физической работы. Можно выгонять блогеров, пугая их живущим в недрах антропоморфным муравьем: «Медина закрыта, деньги давай!» Можно, наконец, продавать папиросы поштучно. Я попробовал. На пятый день у меня получилось…