Добро Мэн-цзы, зло Сюнь-цзы или закон Ли Сы? Как конфуцианство проиграло легизму на 15 лет, но последний оказался проклят навеки
Мэн-цзы брал уроки конфуцианства у внука Конфуция, но вскоре разочаровался в нем. А как Мэн-цзы изменил конфуцианство? Разбирается автор канала «история экономики» Александр Иванов.
К V веку до н. э. Поднебесная, рассыпавшись до того минимум на 148 государств, пережила период Весен и Осеней, не самую худшую пору в своей истории, и вступила в эпоху Сражающихся царств. Худой мир, как известно, лучше доброй ссоры, вот только ссора была неизбежна: большие и сильные давили маленьких и слабых, слабые, враждовавшие друг с другом, были не способны к объединению, подозревая всех прочих в своекорыстии, и число сражающихся царств медленно, но верно, сокращалось за счет «слияний и поглощений» (разумеется, весьма не дружественных).
Шла война каждого с каждым, война, которая сказывается на экономике разорительно. Бюджет правителей в какой-то момент больше формировался не налогами, во взимании которых китайское общество к тому времени уже преуспело, а ограблением вооруженными ордами завоеванных городов, территорий и — людей, хотя, правда, «своим» от грабителей доставалось чуть меньше, чем завоеванным.
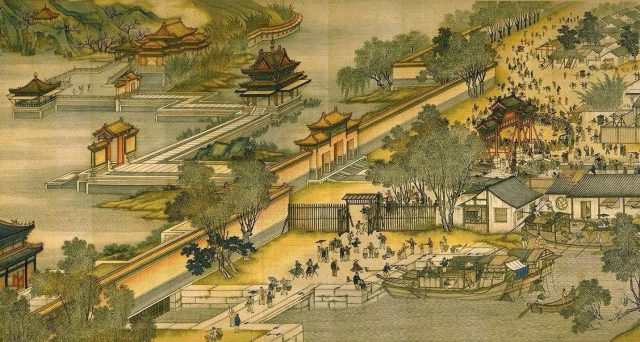
В какой-то момент царств осталось всего семь, но войны не прекратились, просто наступило относительное равновесие, силы были почти равны, больших успехов на вечной войне никто не добивался. Было ясно, что так не сможет продолжаться вечно, но каждая из сторон, не доверяя никому и не ища союзников, ибо все беды, как считали, исходили от предателей, по-прежнему вела бои, и боевые действия то тут, то там стали обычной частью жизни — люди к ним привыкли, как привыкают к погоде.
Впрочем, история отчего-то до сих пор делит мир на государства и на людей, отдавая предпочтение первым и как-то забывая о последних, а между тем, как всегда, больше всего страдали именно люди, а среди них — самые бедные и незащищенные — крестьяне, на которых обрушивались и вражеские армии, и собственные сборщики податей, и неизбежно возникающие во время войн банды. В результате множество восстаний обездоленных и безоружных крестьян было естественным фоном непрекращающихся войн, а бегство крестьян (преимущественно на юг, где земли было в достатке, власть отстранена, налоговое бремя невелико, а войн и вовсе не бывало) приводило к запустению земель и резкому падению доходов воюющих.
Именно в эти беспокойные времена на свет появился Мэн-цзы, чтобы спасти Поднебесную путем «прояснения сознания людей, разоблачения ложных идей, искоренения дурного поведения, отказа от соблазняющих речей». Во всяком случае, сам он был глубоко убежден в этом своем предназначении с детства.
Родившись на столетие позже своего земляка, великого Кун-цзы (называемого европейцами Конфуцием), Мэн-цзы (у тех же европейцев — Менкиус) стал верным последователем конфуцианского учения — и даже брал уроки у внука своего великого предшественника, но в конце концов прогнал этого учителя, заподозрив его в слабых знаниях.

Скромность самого Мэн-цзы была велика: он, преклоняясь перед мудростью учителя, называл себя всего лишь «вторым Конфуцием».
Впрочем, в китайской философской традиции Мэн-цзы в самом деле часто называют «вторым мудрецом», отмечая при этом, что вряд ли учение Конфуция могло бы стать столь популярно, если бы Мэн-цзы не внес свой вклад в развитие этой философии. Некоторые даже склонны считать, что именно он сделал рассуждения Конфуция той самой настоящей и известной нам философией, которая смогла пережить века.
Мэн-цзы считал, что человек добр от природы. Выделяя четыре важнейшие нормы конфуцианства — «жэнь» (гуманность), «и» (справедливость), «ли» (ритуал) и «чжи» (мудрость), он считал, что важнейшими для жизни являются две первые, и именно они определяют успешность или неуспешность человеческого существования.
При этом мудрец видел, что в урожайные и спокойные годы большинство людей бывают добрыми, а в голодные и военные годы — злыми. Такое различие происходит «не от тех природных качеств, которые дало им Небо, а потому, что [голод] вынудил их сердца погрузиться [во зло]».
Мэн-цзы был сторонником, если так можно выразиться, семейной государственности, в его модели хорош тот правитель (отец), что заботится о своих подданных (детях), на что получает «мандат неба». Роль государя — это мягкие налоги и воспитание подданных в духе гуманизма («жэнь»). Роль воспитания Мэн-цзы ставил выше роли законов, то есть споры о том, что важнее для общества — институты или менталитет, велись еще в ту пору, и у Мэн-цзы был свой ответ.
При этом если государь ненадлежащим образом исполняет свои обязанности или чрезмерно удушает народ налогами, то народ не только имеет право, но и фактически обязан избавиться от такого правителя, что будет справедливо («и»). Это вполне перекликается с обоснованным куда позже «правом на восстание».
Иначе говоря, «мандат неба» считается исчерпанным и будет передан другому, справедливому правителю самим восставшим народом.

Различая два пути правителя — путь разумного и гуманного управления («ван дао») и «путь гегемона» («бао дао»), опирающегося исключительно на насилие и принуждение, — Мэн-цзы решительно протестует против второго пути, опять же полагая, что подданные, находящиеся в угнетенном состоянии, вправе восстать против такого государя.
Как и его великий учитель, Мэн-цзы часто приглашался ко дворам многочисленных государей, князей и князьков того времени, желающих почерпнуть мудрости.
Ездил Мэн-цзы с большим обозом, в котором находились его семья, слуги и ученики (хотя официально его учениками признаются лишь двое) — иной раз набиралось до полутораста человек.
Принимающая сторона, часто с некоторым изумлением, обнаруживала у себя в городе вместо скромного философа огромный табор, о котором надо было заботиться и как минимум кормить и обеспечивать ночлегом...

Впрочем, Мэн-цзы не отличался особой сдержанностью в умудрении сильных мира сего, высказываясь всегда прямо и резко (именно с него идет конфуцианская традиция, связанная с тем, что обязанность мудреца — всегда говорить правду, не взирая на лица, как бы горька и опасна для говорящего не была эта правда). Так как слишком мало государей (или вообще никто) соответствовали его представлениям о «ван дао», он в любом из государств, куда прибывал, проповедовал «право на восстание», чем пугал до ужаса гостеприимных хозяев.
Так или иначе, но конфуцианская идея о праведном и справедливом государе как вершине общественной иерархии, подчиненной идее «жэнь», так и не была реализована.
Когда Мэн-цзы стукнуло 60 лет, он прекратил свои поездки с целью вразумления владетельных особ, длившиеся, как и поездки избранного им своим учителем Конфуция, 40 лет (за все 40 лет он так и не нашел в этом практической пользы), и сел за написание поистине эпического философского труда, который получил название «Мэн-цзы». По мнению некоторых исследователей, он является оправданием бунта («ши») подданных в отношении недобродетельных монархов.
В общем, можно сказать, что к концу жизни Мэн-цзы разуверился в надеждах на добродетельность правителей. Великий мыслитель стал подозревать правителей в неспособности к управлению, справедливо полагая, в том числе на основе личного знакомства с большим числом разного калибра самодержцев, князей и царей, что на вершине общественного устройства чаще оказываются энергичные, нежели умные, а бурлящая энергия и ум часто живут порознь. И это, в его представлении, налагает дополнительную ответственность на ученых и мудрецов, призванных направлять действия властителей.
Мэн-цзы заложил фундамент того, что мы сейчас считаем конфуцианством, но это вовсе не означает, что конфуцианство было однородно. Китайцы не случайно говорят, что конфуцианство — это не застывшие догмы, а живое, постоянно модернизируемое учение, отражающее практику.
Словом, конфуцианство жило не одними только гуманистическими идеалами, выразителями которых стали основатели учения.
Поздний современник Мэн-цзы, которого иногда называют «третьим философом» после самого Конфуция и Мэн-цзы, — Сюнь-цзы, живший на закате эпохи Сражающихся царств. Он получил образование в академии Цзися, где, кстати, за несколько лет до его рождения преподавал и Мэн-цзы. Сюнь-цзы учение давалось легко, а его ум удерживал в памяти огромное количество прочитанного. Его почитают как эрудита и энциклопедиста, а его труд, «Сюнь-цзы», как принято считать, не подвергался искажениям и переписываниям.
Заметим, что время заката семи царств в Китае именуют еще и временем Сотни школ мысли: период перехода от множества государств к единой империи, зримого торжества зла над добром и силы над мудростью привел к великому смятению в умах китайских философов — и появилось множество объяснений сущему. Все эти объяснения и школы как раз и аккумулировала академия Цзися, правда, не всякое объяснение прошло проверку временем, хотя большинство из них оставили свой след.
В конфуцианстве, как и в других учениях китайской философии, таких как даосизм, моизм, легизм, да и, кажется, в любой из Сотни школ мысли, вершиной всего, смыслом существования являлось достижение добродетели, о характеристиках которой, конечно, спорили, но гуманность, справедливость, ритуал и мудрость являлись теми четырьмя «ножками стула», на котором восседала добродетель. Речь всегда шла о том, какие именно качества должны доминировать для достижения добродетели.
Как мы помним, Мэн-цзы считал главными справедливость и гуманность, тогда как Сюнь-цзы полагал, что важнее всего ритуал и мудрость, подразумевая под мудростью образованность.

Впрочем, такой подход был следствием того, что если идеи Мэн-цзы базировались на установке, что человек есть добро, то Сюнь-цзы, напротив, исходил из того, что человек есть зло, обиталище порока и грязных намерений. Если Мэн-цзы отталкивался от собственных наблюдений о том, при каких обстоятельствах человек добр, а какие делают его злым, то Сюнь-цзы, живший уже в те времена, когда мирную жизнь застать было почти невозможно, полагал, что люди злы по природе своей, в этом суть их естества.
Самый известный фрагмент из всего написанного Сюнь-цзы — это его рассуждения о человеческой природе, в существовании которой сомневались многие ученые, но не Мэн-цзы и не Сюнь-цзы, вот только понимание этой природы в их учениях выглядело диаметрально противоположным. Так как человеческая природа — зло, то отсюда, полагал Сюнь-цзы, и главенствующее значение ритуалов, которые есть этические нормы — они изобретены специально, чтобы держать зло в узде, заставлять даже злобных существ подчиняться правилам поведения. Ну или нормам закона.
Как и Мэн-цзы, Сюнь-цзы считал, что человеческая природа улучшаема — само собой, за счет соблюдения ритуалов, а еще в этом могут помочь знания, потому что смысл знаний и их назначение — разобраться, с помощью мудрого учителя, в самом себе, чтобы заставлять себя совершенствоваться и менять свою злую сущность в лучшую сторону. Мораль Сюнь-цзы относил к «внешней стороне»: она, в его понимании, не внутри человека, а снаружи, то есть мораль есть мнение окружающих и закон, заставляющий быть добродетельным.
Забегая немного вперед, скажем, что в этом месте мысли этого конфуцианца полностью совпадают с идеологией легизма, и не случайно один из его лучших учеников, Ли Сы, станет правой рукой и ближайшим советником Цинь Шихуанди, который, вооружившись идеями легизма (его вполне можно охарактеризовать как крайнее проявление тоталитаризма), разгромит всех соперников и объединит сражающиеся царства в одну империю.
Правда, Сюнь-цзы в итоге всё-таки пришел к тому, что совершенствование не должно достигаться административными мерами: самосовершенствование — да, меры принуждения — нет.
В китайской философии человек, достигший добродетели, именуется цзюнь-цзы, то есть «благородный», «достигший совершенства» (европейцы иногда переводят это как «джентльмен», что, наверное, не совсем полно), и Сюнь-цзы полагал, что общество изменится и станет совершенным тогда, когда сам правитель, все его приближенные и чиновники, а также ученые, которым отводилась роль их наставников и советников, станут цзюнь-цзы. Странным образом в этом он сходился с Мэн-цзы, который думал примерно так же, только не считал цзюнь-цзы привилегией элит или аристократии, полагая, что путь цзюнь-цзы доступен каждому, во всяком случае, каждый обязан стараться достичь этой цели.
Именно это размышление — о достижении добродетели без внешнего, насильственного принуждения, можно сказать, развело Сюнь-цзы с легистами, которые, как и он, тоже исходили из постулата, что человек суть зло, то есть по своей природе злобен и эгоистичен.
Легисты, не надеясь на самосовершенствование (что выглядело довольно последовательно, согласитесь), считали, что злобную человеческую натуру можно обуздать исключительно еще более злобными законами, жестокость и даже случайность выбора жертвы которых заставляла бы держать свое зло в узде.
Когда Сюнь-цзы, вооруженный своей теорией, приехал к правителю Цинь, прадеду будущего первого императора Цинь Шихуанди, то его идеи в государстве, где царствовал легизм, не произвели большого впечатления. Но забавно и то, что за время пребывания в Цинь сам Сюнь-цзы «сумел» не заметить того, как в этом государстве жестокостью и казнями наставляют подданных на путь добродетели.
Возможно, дело в том, что с трудами главного идеолога легизма, Шан Яна, Сюнь-цзы не был знаком, само имя Шан Яна было проклято (его казнил отец того правителя, с которым общался Сюнь-цзы, — за предательство, которое выразилось в попытке избежать очевидно неправедного суда, хотя, заметим, устройство такого судилища придумал сам Шан Ян).
Словом, взгляды Сюнь-цзы оказались недостаточно радикальными для легистов, которые позже посчитают конфуцианство, в том числе такого сумеречного и пессимистического толка, искажением верного пути, учением, которое обманом пробует увести подданных с верного пути. Поэтому в государстве победившего легизма, которое осталось в истории как империя Цинь, конфуцианцев будут казнить, а написанные ими рукописи уничтожать.
По сути, из всех семи царств победителем окажется то, что не просто впитает в себя идеологию легизма, а сделает ее своим оружием. Прекрасно образованный Шан Ян, идеи которого так понравятся правителю Цинь, в стремлении к достижению добродетели решит просто-напросто заставить людей быть добродетельными — под страхом смерти. Причем страх этот подкреплялся ежедневными казнями, проводимыми с потрясающей показной жестокостью.
Шан Ян, на словах принимая все четыре «ножки стула», де-факто вообще отрицал «жэнь» (гуманность), ибо достижение его целей было возможно исключительно жестокостью. «И» (справедливость) воспринималась однобоко — как право государства распоряжаться жизнью, судьбой и имуществом подданных. «Ли» (ритуал) сводился к беспрекословному подчинению, так как все остальные форматы «ли» вроде уважения к старшим мешали разрушению патриархальных связей — Шан Яну нужна была человеческая масса, не объединенная какими-то нормами и неспособная поддерживать друг друга. Наконец, «чжи» (мудрость) почиталась делом вредным, так как мудр один только закон: в Цинь уничтожали книги и казнили учителей, чтобы избежать появления людей, способных задумываться о смысле собственного существования.
По Шан Яну, человеческая масса должна быть занята двумя делами: во-первых, воевать, во-вторых, выращивать зерно, ибо надо кормить воинов. Все подданные были разбиты на пятерки, в которых введена круговая порука, за бегство с поля боя или плохой урожай казнили всю пятерку. Поощрялось доносительство, так как Шан Ян считал, что казнь, предотвращающая еще не совершенное преступление, — благо и урок другим.
Подробнее о том, кто такой Шан Ян, что такое легизм и как именно он проявлялся в царстве Цинь, можно прочитать здесь. Важно, что, официально прокляв Шан Яна, следующий правитель Цинь вовсе не отказался от принципов легизма, так как этот способ управления человеческой биомассой показался ему весьма эффективным. Совершенствуясь, легизм дожил до времен Цинь Шихуанди, объединителя Китая, при котором этот способ управления был распространен на всю страну.
Кстати, Цинь, следуя законам легизма, подразумевал чрезвычайную замкнутость — какое-либо общение с жителями других царств было запрещено под страхом смерти, поэтому, например, даже люди столь информированные и образованные, как Сюнь-цзы, ничего не знали о том, что происходит в соседнем государстве.
На многие десятилетия конфуцианство будет заслонено легизмом, под жестоким знаменем которого государство Цинь победит всех соперников и впервые в истории объединит Китай в империю.
Причем первый ученик Сюнь-цзы станет первым министром и ближайшим советником Цинь Шихуанди, что, в общем-то, выглядело естественно. Сам Ли Сы, во всяком случае, будет объяснять это таким образом, что он просто «докрутил» некоторые постулаты своего учителя, который сам до логического завершения своих идей дойти не решился. Правда, империя просуществует недолго, затаенная и загнанная вглубь ненависть к правителю и правлению выплеснется наружу. Вся мощь репрессивного аппарата, оказавшаяся в руках ближайших сподвижников Цинь Шихуанди, не поможет им удержать власть.

Хотя именно легизм одержал верх и оказался самой эффективной из стратегий подчинений, захватов и разрушений, но, когда дым развеялся (а произошло это после смерти Цинь Шихуанди и воцарения новой династии — Хань), пришло время осознания.
Тот ли мир был построен легистами, в котором сами жители империи хотели бы жить? И идеи Мэн-цзы, и даже близкие к легизму взгляды Сюнь-цзы, казавшиеся никому не нужными и даже смешными, вдруг стали важными и востребованными: оказывается, прежнее устройство мира, через мясорубку которого было пропущено несколько поколений, вообще никому не казалось не то что идеальным, а хоть сколько-нибудь пригодным для жизни, и обществу потребовались новые ориентиры.
Рухнула империя, основанная на принципах легизма, казавшаяся вечной и несокрушимой, легко и неожиданно, как рушатся все тоталитарные режимы. Уже после смерти Цинь Шихуанди, когда его приближенные вели войну за власть, а все жители Поднебесной исключительно в роли статистов массово, привычно и организованно умирали за своих начальников, случилось небольшое происшествие: отряд рабочих, около 900 человек, был отправлен на строительство Китайской стены (а строилась она бесконечно), но разливы рек не дали им прибыть к месту работ вовремя. В принципе, дело заурядное: они, по законам Цинь, придуманным еще Шан Яном, должны были всё-таки явиться туда, куда указано, пусть и с опозданием, и (не они первые — не они последние) смиренно понести наказание — а такой проступок карался смертной казнью.
Такое и раньше случалось, все знали, что должны поступать именно так, чтобы кара не обрушилась на их семьи (по законам Цинь, семьи тех, кто пробовал избежать «заслуженного» наказания, истреблялись на три поколения вверх, до дедов, и на три поколения вниз, до внуков).
Но вот именно эти рабочие именно в этот раз почему-то решили, что не хотят, чтобы их убивали, — и взбунтовались.
Через несколько месяцев бунтовщики уже стали 300-тысячной армией, которая росла, вооружалась, одерживала победы в сражениях с армиями Цинь, которые состояли точно из таких же людей, что и бунтовщики, и в глубине души понимали, что воевать за идеи, которые являлись постоянной угрозой их жизни, не логично. То есть когда режим оказался по-настоящему в опасности, то вдруг выяснилось, что его некому защищать — в том числе не горели желанием отстаивать его люди, которые еще вчера клялись в верности и рассказывали, как всё разумно и прекрасно устроено властью. Словом, группа людей в 900 человек оказалась настолько притягательной силой, а сама идея бунта настолько захватывающей, что империю Цинь уже ничто не могло спасти.
Китайские поэты потом будут сравнивать это событие с тем, как маленький камешек, сорвавшийся с горы, вызывает обвал, — нам сейчас это сравнение может показаться банальным, а тогда это был свежий поэтический образ.
Мир переменчив — пройдет какое-то, очень небольшое, время, и легизм будет официально проклят (что, конечно, вовсе не означает, что он будет забыт, а его правила и нормы выведены из оборота, нет, они никуда не денутся и в наше время), конфуцианство будет признано единственно верным учением. Благородные взгляды на добро как основу человеческой сущности, которые проповедовал Мэн-цзы, станут фундаментом идеологии. Сюнь-цзы посчитают очень интересным, своеобразным, но несколько сомнительным ученым, впрочем, о нем не забудут и периодически, по политической нужде, вводя какие-то ограничения прав и свобод, будут вспоминать не проклятых официально легистов (пожалуй, в истории сложно вспомнить что-то более жуткое, чем времена торжества этого учения и практического применения легизма, доведенного до крайности), а вполне благостного конфуцианства Сюнь-цзы.
Тем не менее отныне конфуцианство будет думать не только о добром начале в человеке, но и о злом тоже.
