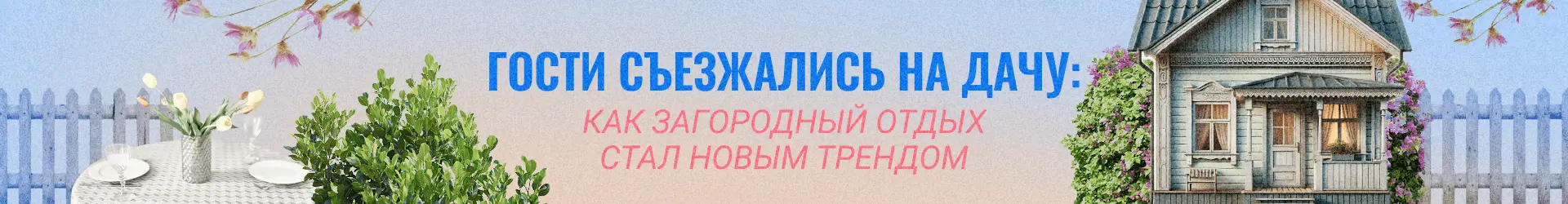Команда MIEFF: «Наша цель — восстановить культуру экспериментального кино в России»
Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF (Москва, 20–23 июля) создавался людьми без опыта, на чистом энтузиазме и любви к нетривиальному. Со-основатели фестиваля Владимир Надеин и Екатерина Шитова познакомились на воркшопе Ивана Вырыпаева, а идея MIEFF выросла из наблюдений за лондонским андеграундом. Роман Навескин выяснял у Владимира и куратора Риты Соколовской, что происходит с русским экспериментальным кино после Кобрина и почему только этот сегмент кинематографа сегодня предлагает зрителю мыслить свободно.
Вова: Однажды в Ист-Лондоне мы попали в заброшенный бар — куча людей, пленочные проекторы, старые столы и стулья, кто-то на полу лежит, и там происходят перформансы: люди «Доместос» на пленку льют, потом запускают в проектор… В этом чувствовалась свобода, что-то странное и увлекательное. Это во мне зажгло искру. Я позвонил Кате и сказал: слушай, давай сделаем фестиваль экспериментального кино в Москве. Катя сказала: «Класс, давай».
Но как начать — было непонятно. Идея пришла в феврале-марте, в июле мы его уже сделали. Это было экстремально. К каждому фильму нужно было сделать переводы и субтитры — у меня реально были панические атаки. Меня трясло.

— Как вы готовились к первому фестивалю? Ты ездил по странам?
Вова: Вообще не ездил. Мы тогда не понимали, куда и зачем ехать. Запустили прием заявок на специальной платформе. Я сидел где-то в баре, нажал кнопку «запуск»… И смотрел, как мне падают оповещения на e-mail, одно за другим. Сразу же! Я в первый же вечер сидел и думал: «Господи, мы же не будем это показывать?» На двадцать работ одна попадалась более-менее. Всего прислали 3500 работ. Соцсети тотально исчезли из моей жизни. Я просыпался с утра, открывал ноутбук и смотрел, и Катя смотрела. У нас не было выхода.
Рита: В этом году мы смотрели заявки полгода.
Вова: В прошлом году мы не брали за это деньги. В этом — ввели fee, зависит от дедлайна: сначала бесплатно, первый месяц пять долларов, второй месяц — десять, потом пятнадцать. Это увеличило качество. Большие фестивали обычно просят минимум тридцать евро. В Локарно — сто евро. Роттердам — в районе сорока.
Рита: Мы установили символическую сумму, чтобы люди просто внимательно прочитали правила. Потому что часть присланных заявок обычно не соответствует регламенту.

Вова: Это очень круто, что появились такие платформы. Фестиваль не появился бы без них. Раньше такого не было. В фильме-открытии MIEFF “EXPRMNTL” (2016, Брехт Дебакер) люди занимаются фестивальной перепиской на печатной машинке: «Вы не подскажете, когда закончится прием заявок?»
— Для первого фестиваля вам нужно было еще сформулировать свою идеологию.
Вова: Отправная точка для нас была — восстановить культуру экспериментального фильма в России. Международный контент — это рычаг, который помогает воспитать вкус. В России большие проблемы с визуальным вкусом, как мне кажется. Не хватает насмотренности, а она очень важна.
Рита: Проблема нашей аудитории — нет понимания, что такое экспериментальный фильм. Нет привычки смотреть такое кино.
Всем хочется, чтобы взглядом управляли. Чтобы было проще. Нет свободы взгляда — нет свободы мысли.
А экспериментальное кино — это постоянное переизобретение языка. Это свободная от конвенций зона. Там нет формул. Это кино не функционирует по тем законам, по которым функционирует жанровое нарративное кино. Даже дело не в нарративности, на самом деле нарратив может присутствовать и в экспериментальной картине. Но тут идет постоянный процесс исследования, поиска. Что такое вообще эксперимент? Это проба, попытка, что-то новое. А у нашего зрителя взгляд…
Вова: …Мы чуть-чуть все находимся в зажиме. Тяжело открываемся. Сейчас и время такое, и бэкграунд… Я сейчас говорю про культуру, искусство. Все слишком зажато. А когда ты смотришь экспериментальный фильм, ты каждый раз изобретаешь новый способ просмотра. Вчера я смотрел «Мозг Ульрики» Брюса Лабрюса — первые десять минут я просто учился это смотреть. А потом понял, что нужно открыться и понять правила, по которым играет художник. Что он хочет? Иначе ты не можешь объяснить себе, что это вообще такое.

— Это дисциплинирует зрителя по сравнению с жанровым кино?
Рита: Это скорее разработка способности зрителя менять оптику.
Вова: В конвенциональном кино, в разработке сценария есть куча структур: арки персонажей, акты, правила монтажа… Всё это подчинено тому, что зритель воспринимал сюжет и его развитие. Здесь ничего этого не существует.
Рита: Мы возвращаемся к тому, почему важен международный контекст. За рубежом уже есть привычка смотреть кино активно.
Вова: Чувствуется, что такая привычка людям нужна, спрос есть. Даже если зритель говорит: «Я ничего не понимаю», — у него есть интерес. Потому что это свободная форма. Все хотят свободы. И в частности — в нашей стране.
— У России сложная история с экспериментальным кино. На первом фестивале MIEFF у вас были отсылки к Дзиге Вертову, на этом — ретроспектива Владимира Кобрина. А между Вертовым и Кобриным экспериментального кино почти не было.
Вова: Был СССР, и в этой области действительно ничего не происходило.
— А в нулевых и десятых — в путинской России?
Вова: Тянулся шлейф параллельного кино, правда, идущий с восьмидесятых. Например, Евгений Юфит продолжал снимать.
Рита: В девяностые появился российский видеоарт, художники экспериментировали с технологиями. «Синий суп», выставку которых недавно организовал фонд культуры «Екатерина», появился в середине девяностых.
— Экспериментальное кино идет плечом к плечу с современным искусством?
Рита: Для экспериментального кино, как и для современного искусства, чрезвычайно важен вопрос языка. Оно использует новые формы высказывания, взаимодействия со зрителем. Оно критично. Кинокритик Василий Корецкий недавно сказал очень интересную вещь: нарративное кино всегда работает с прошлым и никогда — с современностью. Любой нарратив всегда существует в прошлом, и ты не можешь снимать нарративное кино о современности.
Вова: Либо про будущее, либо прошлое.
— Среди работ этого года были те, которые работали с актуальными темами, были реакционными? Откликались на события, повестку?
Рита: Безусловно. Все. Они очень современные. Другими они даже не могли быть.
Вова: Пример — фильм «Асбест» Саши Литвинцевой и Грема Арнфилда, который рефлексирует на тему самого минерала. Асбест — минерал, из которого построено большое количество жилья, — в долгосрочной перспективе вызывает раковые заболевания. Люди живут в ядовитых коробках, не зная об этом. Художник вскрывает эту тему, задает вопрос: нужно ли потратить миллиарды долларов, чтобы эти дома просто уничтожить? Фильм частично снят в Квебеке, где в 2012 году закрылась компания по добыче асбеста. А сколько до этого было выстроено зданий! При этом в Средневековье асбест считали магическим минералом.

Рита: Потом есть фильм «Глубина резкости» — совсем другой. Он рассказывает про национал-социалистическое подполье — немецкую правоэкстремистскую террористическую организацию, члены которой совершили ряд убийств на национальной почве. Художница Алекс Гербаулет занимается этими проблемами. Для Германии это до сих пор актуальная тема — политически, культурно. У них сложные отношения с прошлым — оно постоянно с ними. Казалось бы, что Германия — это страна всеобщего благосостояния и благополучия, но при этом там продолжают случаться страшные, казалось бы, анахроничные вещи. Как и по всему миру.

Мне кажется, у всех фильмов фестиваля есть общее настроение: художники пытаются исследовать ситуацию, в которой мы оказались, — ситуацию растерянности. Мы все на самом деле субъекты расщепленные.
Мы все не понимаем, в какой реальности находимся. Все измерения смешались. Об этом тоже есть много фильмов: про отношения с виртуальной реальностью, граница между воображаемым и реальным — она плавающая.
— Были фильмы, снятые в технике VR?
Рита: VR мы не привезли, но очень хотим.
Вова: Очень хотим. У меня сложные отношения с VR. Кристиан фон Боррис («Пустыня реального»), с которым мы делали интервью для газеты «Синефантом», он работает только с found footage: найденными пленками, Ютьюбом, новостными роликами. Он антикопирайтер, который очень много рефлексирует на тему реальности и реального. Я ему задал вопрос: «Каким будет ваш следующей проект и не хотели бы вы снять VR-фильм?» И он говорит: «Мне неинтересны VR-фильмы». При этом Кристиан сформулировал мысль, которую я для себя никак не мог сформулировать: кино — это все-таки коллективный сеанс просмотра. VR больше про гейминг, а не про кино. Смотреть фильм одному и с кем-то — совершенно разный эффект. Даже если весь зал будет сидеть в VR-очках — это все равно будет другое. В VR ты сам путешествуешь, сам создаешь свой нарратив.

— Кто представляет жюри в этом году?
Вова: Борис Нелепо — кинокритик и куратор, исследователь кино. Борис — важная персона в контексте современного кино России, потому что он является консультантом по кинематографу СНГ в Локарно. Виктор Алимпиев — современный художник и видеохудожник. Екатерина Чучалина — куратор и руководитель выставочного отдела фонда VAC. Евгений Гусятинский — кинокритик, куратор и отборщик Роттердамского фестиваля — что большой подарок. Роттердамский фестиваль для всех нас является планкой по актуальности. Это самый бесстрашный фестиваль.
Рита: Идеологически — самый близкий нам.
Вова: Да. Чувствуется, что Берлин, Канны — они все время боятся ошибиться. Роттердам рискует, а остальные потом за ним подбирают. В Роттердаме в 2000 году показали первый полный метр Апичатпонга Вирасетакула, через два года он получает «Особый взгляд» в Каннах, через пять лет он получает приз жюри, а в 2010 году — «Пальмовую ветвь». И все это благодаря Роттердаму. Они его нашли!

— По каким критериям оценивать экспериментальное кино? Если мы говорим о жанровом кино, за многие годы выработался какой-то механизм оценки. А что делать с экспериментальным?
Вова: Несколько раз я видел, как художник пишет в фейсбуке: «Вообще, я не очень люблю конкурсы, но вот я тут типа получил…» У другого вижу: «Я тоже ненавижу эти конкурсы, считаю, что это неправильно всё, но мне дали приз…» Они это не любят, но это аккумулирует интересную энергетику. Ядро фестиваля — это конкурс. Мы уже сделали свой выбор, когда выбрали эти тридцать фильмов.
Рита: Для нас очень важно, кто будет в жюри, потому что эти люди, которые задают контекст, имеют сформированный вкус, идеологическую и политическую позицию. Вопрос выбора фильмов-победителей очень сильно зависит от конфигурации жюри. Важно сформировать жюри, которое столкнется. У них разные позиции, разные вкусы, но они в любом случае должны солидаризироваться, весь свой опыт аккумулировать в выборе. Здесь нет никаких критериев — только человеческий фактор.
Вова: Зритель никогда не доволен результатами. На прошлом Каннском фестивале выиграл Ксавье Долан, и все шептались: какого черта он выиграл?

— Как вам удалось заполучить фильмы Владимира Кобрина на пленке?
Вова: Это целая история. Еще в сентябре я начал пересматривать фильмы Кобрина на Ютьюбе. Потом поговорил с Ильей Томашевичем. Он — педагог Московской школы нового кино, адепт экспериментального фильма в России. И я говорю: «Илья, я хотел бы показать Кобрина, но с Рутрекера качать не очень хочется». Он ответил: «Свяжись с моей знакомой, она у Кобрина училась во ВГИКе».
Я написал его выпускнице, она мне сказала: вам нужно связаться с Михаилом Камионским — это оператор фильмов Кобрина, который живет в Кельне. Я нашел его в фейсбуке, написал, он дал мне свой телефон… Это был уже ноябрь.
Я позвонил Камионскому, и он фантастически обрадовался, потому что Центрнаучфильм, студия Кобрина, — это вся их жизнь. Михаил дал контакты падчерицы Кобрина, у которой на даче хранится весь их архив пленки. Инна Казанджан нам очень помогла. Всю зиму мы ждали, когда можно будет забрать эти пленки — потому что дача… Весной мы их забрали, проверяли. Я очень жду показов. На большом экране еще никто из нас не видел этих фильмов.
— Выбор фильмов направляет фестиваль. Куда вы хотите его направить?
Вова: Мне очень интересно expanded cinema, «расширенное кино». Есть много идей по взаимодействию аудиовизуальных перформансов и, например, городских пространств. Интересно, чтобы кино выходило за рамки кинозалов. Когда в Америке появился феномен expanded cinema, им занимался Энди Уорхол и многие другие художники. Они делали это в планетариях, заброшенных домах… Мне такие перформативные акции очень интересны, а у нас их пока нет, о них никто не знает.
Первый зачаток — у нас будет совместный перфоманс художницы из Нидерландов Эстер Урлус с саунд-артистом Филиппом Ильинским. Урлус — основательница аналоговой лаборатории в Роттердаме. Она будет делать перформанс с четырех проекторов, а Филипп будет создавать звук.
— Что произойдет со зрителями, которые не были знакомы с миром экспериментального кино и попали на ваш сеанс?
Вова: Реакция будет очень разная. Будут уходить. Будут протестовать.
Будут досматривать, но ругаться. Кто-то будет признаваться в любви. Кто-то скажет: я никогда такого не видел, это просто космос. Я не фантазирую, а уже по опыту говорю. Экспериментальное кино всегда вызывает резонанс.
Рита: Зритель, который не насмотрен такими фильмами, он не может выдать среднюю реакцию. Это в некотором смысле шокирующее зрелище.
Вова: Уход из зала — это тоже круто. Когда человек уходит — это его определенная позиция: «Мне не нравится это. Я так не хочу. Не нужно мне это продавать! Я отдал за это триста пятьдесят рублей!» И прекрасно. У меня нет страха перед этим. На международных фестивалях люди кричат иногда. Хлопают дверьми, показательно встают. В кинотеатре такого не может произойти. На фестивале происходит встреча.