«Матюгов мало, но шума много»: интервью с Александром Лебедевым-Фронтовым — пионером русского индастриала и оформителем «Лимонки»
Как известно, индустриальную музыку придумал в 1920-х годах советский композитор Арсений Авраамов, а затем его знамя подхватили западные сочинители и музыканты. Многие думают, что возвращение к этой традиции произошло в России лишь после падения железного занавеса, но это неверно: на самом деле самобытные авангардисты-шумовики появились у нас уже в 1980-х. С одним из них, Александром Львовичем Лебедевым-Фронтовым, пионером отечественного индастриала, художником и оформителем первых номеров газеты «Лимонка», поговорил надмосковный шпион «Ножа» Павел Коркин: они обсудили, каково было 35 лет назад записывать нойз с помощью подручных средств, а также нечеловеческие звуки всех сортов и красок, «Русского людоеда», концерт группы «Соник Юф» и другие животрепещущие предметы.
Павел Коркин: В разных старых интервью с Лебедевым-Фронтовым можно найти много похожих вопросов и историй, но я постарался их обойти и разведать что-нибудь новое. Так как Александр Львович не пользуется интернетом, мы связались с ним по телефону и договорились о встрече у метро, откуда было договорено ненадолго зайти к нему. К сожалению, я перепутал выходы из ленинградского метро и долгое время стоял, рассматривая монумент у газетного ларька, в то время как А.Л. ждал меня у другого киоска. К счастью, удача меня не оставила, и спустя полчаса я уже сидел в гостях на стульчике и внимал словам гуру.

— Самое сложное — решить с чего начать, особенно когда так много чего хочется спросить. Не могли бы вы рассказать про свою внутреннюю кухню? Как вы пришли к идее сочинения шумовой музыки и с помощью каких инструментов ее реализовали?
— Изначально я ориентировался на звукозапись, то есть не на концертные дела. В то время тяжело было все это поднять. Технологически я не очень подкованный человек поэтому я записывал различные звуки на кассеты, и уже с их помощью пытался что-то компоновать. Иногда добавлял живой момент, чисто шумовой, а инструмент мог быть любой, любой источник. Поначалу с пылесосом пытался эксперименты делать.
Мне нужен был ровный такой звук с разными штуками. Примочки какие-то появлялись в СССР тогда, я эквалайзер приобрел. Записывать я начал где-то году в 1978-м, чисто для себя.
Изначально я рисовал, разную графику делал, и у меня появилась в какой-то момент мысль, что надо бы сочинить к десяти небольшим коллажам музыкально-звуковое оформление, к каждому из них. Тогда у меня маленький пультик какой-то появился, я подвешивал еще какие-то звуки, работал с бобинными петлями, и потихонечку это все нарастало.
Я, честно говоря, относился к этому не очень серьезно. Сейчас жалею, конечно, что тогда не было технологий у меня, иначе было бы гораздо больше возможностей. Мне некому было посоветовать, как это все делать, и я опытным, экспериментальным путем шел к записи.
Я не знаю, может быть, ты слышал. Я выпустил несколько лет назад на CD-R «Хаос» и «Космос» — это мои самые ранние работы, года 1985-го [согласно википедии, «Лебедев-Фронтов предпочитает издавать свои записи на восковых валиках XIX века». — Прим. ред.].
Я их совершенно случайно нашел, они у меня на бобине были, а часть «Космоса» потеряна, только минут тридцать осталось. И «Хаос», это такая типичная нарезка с резкими переходами. Я в свое время их забраковал, думал, что чушь, а потом лет через двадцать пять смотрю — в принципе неплохо. Наивно, но в этом что-то было такое.
Еще поскольку я искусством занимался, читал какие-то тексты об экспериментальной музыке. Буквально в каждом интервью говорю, что была в свое время замечательная книга Глеба Анфилова «Физика и музыка», о всяких звуковых физических процессах в основном, но еще там было про Пьера Шеффера, известного французского деятеля, который занимался шумовой звукозаписью. Это меня и сподвигло.
Издаваться тогда было невозможно, рок-музыка-то с трудом издавалась, а такое вообще не воспринимали как музыку, чисто шумовая фигня. И, тем не менее, с течением времени все это стало кому-то интересно.
— А Кульбин и Авраамов оказали на вас влияние?
— Ну, я о Кульбине ничего не знал в то время точно. Это уже потом, наверное, в конце 1980-х — начале 1990-х. Авраамов, наверное, тоже нет: я ко времени знакомства с его деятельностью уже знал много чего другого.
О Руссоло я читал в своем время много, практически в каждой книжке об авангардном искусстве. В СССР выходили маленькие книжечки про искусство, критические и остро-критические, о футуризме и так далее. Ясно, что аппараты я как у Руссоло не мог создавать, но захотелось что-то такое попробовать…
— Но это все было значительно позже, чем вы купили тот рентгеновский снимок с записями, так называемую музыку на костях? Вы об этом уже рассказывали в интервью.
— Да, позже намного.
На костях я хотел приобрести какой-то «Битлз» или «Роллинг Стоунз», а мне мужики подсунули что-то непонятное, с матюгами и треском.
В то время были маленькие конторы, которые могли записывать поздравительные пластинки с текстом. А они как-то умудрились закатать туда такое.. Хорошая была пластинка, к сожалению, она у меня не сохранилась. Но это был первый толчок для меня, я понял, что может быть и такое, и художественно развил эту идею: матюгов мало, но шума много.


— Один мой знакомый из Лондона сейчас развивает и популяризирует движение записи на костях, собирает разные старинные пластинки. У меня у самого большая коллекция такого материала, и мы с ним встречались, чтобы он приобрел у меня звуковые письма. У меня их было несколько коробок.
Откопал их на барахолках, иногда даже на помойках находил, себе оставил лишь те, где есть голос, что-то такое интересное и неожиданное. А в свое время в Грузии на барахолке сумел договориться с сыном одного человека, чтобы тот съездил в гараж и у своего бати забрал прямо стопкой огромное количество рентгенов с записями, и там, на удивление, оказался очень интересный грузинский фольклор. К сожалению, я до сих пор так и не оцифровал их и не расшифровал названия, потому что они надписаны довольно криво и на грузинском.
Я, по сути, тоже ожидал услышать каких-нибудь «Битлов» в плохом качестве, а получил нечто интересное и настолько настоящее, какого в Грузии не сумел увидеть, да и вообще нигде больше.
Возвращаюсь к вопросам: расскажите о ваших первых проектах, про работу с Судником, про «Ветрофонию»…
— Ну, я же только в 1990-х начал по-настоящему, до этого понимал, что интереса к искусству такого плана просто нет. Поэтому я пытался реализовать свои музыкальные интересы в разных группах: была идея внедриться в группу и попытаться ее переориентировать на более авангардную музыку.
Буквально пару групп я так прошел, а потом понял, что это невозможно: мне говорили «Это не музыка!» и все, что тут…
Мне это вскоре надоело, и я стал что-то писать для себя, чисто в стол.
А потом мы с приятелем организовали «Линию Масс»: он мне приволок свою запись под названием «Линия», там был просто какой-то фортепианный бред на кривом фортепиано, а я ему предложил сделать более шумовую запись. По-моему, это был где-то 1987 год. Записывали в жуткий мороз под 40 градусов, выжило в результате только два трека.
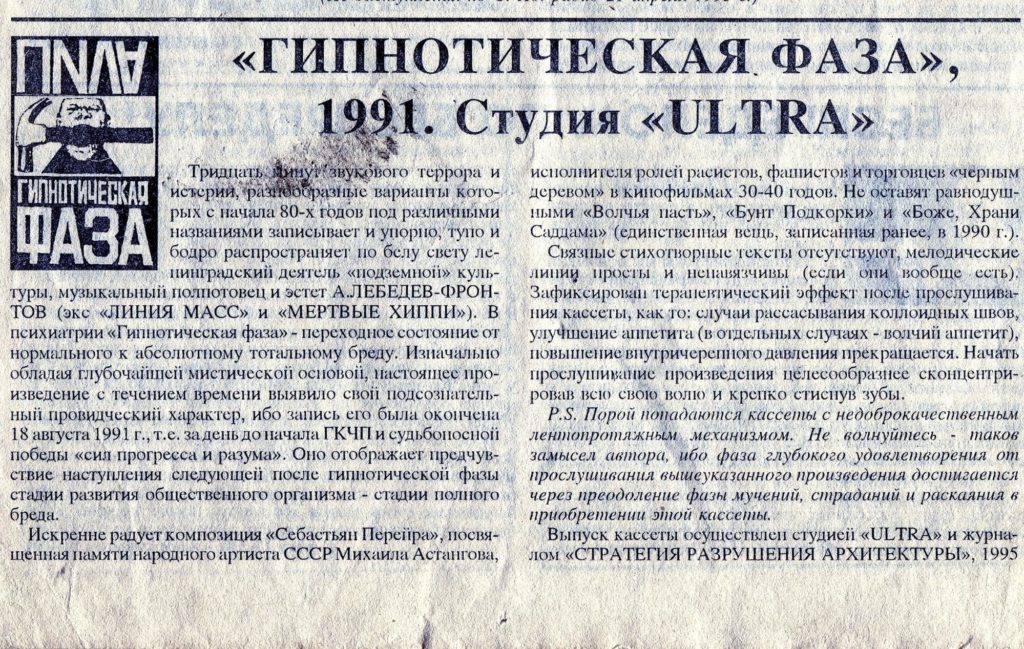
— А почему вы решили основать кассетный лейбл Ultra и что он из себя представлял? Почему кассеты? Вы же больше любите винил?
— Ну а как возможно было в начале 1990-х что-то на виниле издать? Просто нереально. Интернета не было, связаться невозможно ни с кем за буграми, где это могли издать…
Потом еще надо убедить, что это достойно издания — на Западе люди немножко по-другому мыслили, надо было найти штук сто кассет и рассылать их в зыбкой надежде, что кто-то внимание обратит.

У Судника были какие-то связи, но он в Риге жил и контачил с Маурицио Бьянки, ранним итальянским шумовиком. Рига в этом плане была более продвинутым городом. А в Петербурге нереально было, объективно сложно, да плюс к тому я еще немного замкнутый, среди панков у меня контактов особо не водилось.

Я издавал кассеты, но очень небольшими тиражами, штук по десять, по мере финансовых возможностей. А потом я с Курехиным стал общаться и понял, что надо глобально подходить к продукции, как он. И так появилась идея кассетную фирму создать. Не просто отдельные кассеты издавать без всего, а сделать лейбл, придумать название и начать то, что есть под рукой, издавать. Потом Судник подтянулся, я его старые работы выпускал, потом еще кто-то, и так потихонечку, потихонечку…
Появился интернет, пошло распространение, мне помогал мой покойный друг Эдуард Чернышев, а потом начался бум в начале 2000-х. Очень много заказов было, не успевали рассылать кассеты, но в основном в обмен — редко кто покупал.

— А как сложилась совместная работа с К2?
— Как-то Эдуард на него вышел, наверное, какой-то обмен делали. Он сам предложил, ему было интересно издаться в России, и я издал.

— Расскажите немного про «Галерею экспериментального звука». Как она появилась?
— Появилась она буквально на моих глазах. Судник с Сергеем Бусовым, был такой галерист, решили вместе создать постоянно действующую галерею. У Бусова было помещение на Пушкинской, Судник стал художественным руководителем всего этого безобразия, ну и я там присутствовал.
Они утверждают, что это я предложил название ГЭЗ, «Галерея экспериментального звука». Вполне возможно, не очень помню уже. Я любил такие сокращения с какой-то дополнительной смысловой нагрузкой.
Потихонечку они там начали делать проекты, стали подтягиваться люди соответствующие, концерты происходить. А когда они переехали в другое помещение, там уже серьезно развернулись. У них появились связи, люди стали из-за бугра, из других городов приезжать. Папа Срапа, по-моему, там выступал.
— А с живыми выступлениями как получилось, когда эта музыка вышла на сцену?
— С Судником мы делали в 1996 году концерт в его мастерской. У Судника была какая-то аппаратура, а у меня ничего не было, кроме каких-то самых дебильных вещей, советских гитарных примочек. Когда мы в последний раз вместе выступали, я тоже их использовал, особо не заморачивался.
— В последний раз — это когда с фильмом про Пи-Орриджа в Москве?
— Не помню, какой год был, 2015-й, наверное. Честно говоря, я не заточен на живые выступления, я больше студийного плана человек. Концерты в моем понимании — это все-таки отдельная форма искусства. Стыдно признаться, но я не особо получаю какую-то энергию от публики. Мне приятнее говорить с помощью записей.
— А вот как раз про публику — ходит много мифов, а может и реальных историй, про то, как люди теряли сознание, самовозгорались во время ваших концертов.
— Это мне сложно сказать. Может быть, кто-то и самовозгорелся, но не в моем помещении… В обморок — это журналист Дмитрий Жвания, который был на первом концерте «Ветрофонии» — говорят, ему там плохо стало. Ну, бывает такое… Наша задача была исполнить то, что намечено.
— Может быть, расскажете о радиопрограмме «Русский людоед»?
— Это курехинская программа. Мой приятель с ним работал и подарил ему мою кассету.
Курехин очень загорелся — видимо, я попал в такой момент, когда у него был определенный кризис, он дикие всякие формы искал.
Курехин мне позвонил, и мы познакомились. И как-то ему захотелось, чтобы обо мне узнало побольше народу, поскольку он пришел и видит, что у меня много работ, много звукового материала разного, а я сижу и никому особо не нужен.
Меня это не парило, а вот Курехина почему-то задело, и он решил вести активную пропаганду моей персоны в программе «Русский людоед» [первоначально она называлась «Ваша любимая собака», выходила на «Радио-1 Петроград». — Прим. ред.], запускал в народ мифологию какую-то свою. Ну, я спокойно к этому относился. У Курехина была хорошая идея сделать винил вместе, это было начало 1996 года, но не вышло.
— Давайте перепрыгнем к картинам, наверное. Вы сказали, что это началось у вас еще до музыкальных опытов. Расскажите, с чего все началось, и как это перешло в оформление первых «Лимонок», в выставки…
— Началось как обычно, был у меня с детства такой интерес. Я уже в школе рисовал — не учился, а рисовал. Везде сплошные тройки, только одна пятерка по рисованию.
Интересно было создавать образы. Этому я тоже нигде не учился специально, пытался в училище Серова поступить, но мне что-то не понравилось там. Я ходил на курсы, но там было слишком академично, а у меня уже были свои идеи.

Вот сейчас мне обещает один знакомый где-то найти мои старые рисунки несколько оголтелого плана — смесь сюрреализма с экспрессионизмом. Потом я почувствовал, что надо как-то это дело соединять, музыку и искусство.

Словно раздвоение такое было: я как художник был Александр Лебедев, а как музыкант — Александр Фронтов. Вроде доктора Джекилла и мистера Хайда.
Но надо все это дело в одну кучу, пускай будет Лебедев-Фронтов. И это дало свой эффект, потому что с музыкальной точки зрения публики больше было, она уже воспринимала музыку через дизайн, и в какие-то моменты все это увязалось четко.

Продавать работы отдельно сложно было, жить на это было невозможно. Но я все это вместе увязал, и у этого искусства был хотя бы какой-то смысл… И была борьба за выживание. Я закончил университет, у меня есть филологическое образование, но как-то меня это совсем не грело, хотелось заниматься искусством.

— А вот оформление «Лимонок»?
— Не оформление, я просто работы давал для них. Я интересовался тем, что происходит вне моего кокона, на тот момент мне это политически было близко. Режим дедушки Ельцина меня не устраивал абсолютно, вызывал отвращение, так скажем, поэтому я решил нагадить хоть таким методом. Чтобы мои работы работали на такую радикальную организацию.
Много что меняется со временем, и взгляды мои тоже поменялись. Но я еще организовал в Питере газету «Смерч-инфо», аналог «Лимонки», она в интернете до сих пор функционирует.
— Они теперь переключились, как мне кажется, скорее на видеоформат. А сейчас вы какое-то влияние на это издание оказываете? Сотрудничаете?
— Бывают идеи иногда, что-то предлагают сделать. Но у меня есть контакт с ними нормальный, с теми, кого давно уже знаю, лет двадцать. Хорошо, что проект работает до сих пор, с 1995 года, почти двадцать пять лет.
Я изначально рассчитывал, что сделаю только несколько номеров, самому неохота было этим заниматься. Логотип сделал, еще какие-то небольшие статьи… А потом кто-то подхватит из более молодого поколения и будет под этим брендом выражаться самостоятельно, что-то делать, что ему интересно. Так и получилось.
— А что за замечательный такой аппарат? Старый перекрашенный аналоговый орган?

— Это орган, названия на нем никакого не было. Его я использовал на выставке «33 звука» в прошлом сентябре. Под картины ставился такой вот аппарат, рука подсоединялась механическая и жала на клавиши. Люди приходили на вой этого органа. Называлась инсталляция «Враг подслушивает». Такая интересная надпись, времен войны. Людям понравилось, и организаторам тоже, и мне. Потому что они все сами таскали. Это самое важное.
— Какие сейчас у вас планы? Близятся ли какие-то выступления, альбомы?
— Нет, выступления точно не близятся, только если случайно как-то. Альбомы — сейчас работаем с Юрой Ковальским из группы «Монумент страха».

Я ему сказал, что у меня есть запись «Веприсуицида» недоделанная, а он мне предложил доработать как-то и оформить. Тема альбома — хунвейбины, китайское хунвейбинство. У меня много было семплов из разных фильмов, и мы это все замешали. Осталось только сведение и еще какие-то нюансы заточить. Может быть сам издам, может быть кому-то предложу.
Сейчас в Финляндии лейбл Freak Animal Records издает все вообще записи «Веприсуицида», которые были. Какой-то интерес есть к старому материалу, и я решил попробовать поставить точечку хорошую на этом проекте, сделав последний альбом. Вот так.
— Насчет нынешней шумовой или авангардной сцены — вы открываете окна, смотрите, что сейчас происходит?
— Нет, нет, вообще ничего не знаю. Знаю только то, что мне Артем дает, ландшафты всякие шумовые.
Что касается интернета, мне рассказывали, что был такой анархист питерский, Петр Рауш, не знаю, жив он или нет, но в свое время он на улице продавал свои анархистские газеты. Такой, с черным знаменем, в папахе.
А потом ему кто-то подарил компьютер и интернет провел, и Петр исчез навсегда для мира, ушел туда, в иные реальности. Это был интересный такой человек городской.
Я иногда думаю: «А нужна ли действительно вся эта информация? Не умирает ли при этом некая идея поиска?» Мне больше нравилось, когда трудно было найти информацию. А сейчас пальчиками набрал и все.
— Когда все это просто — уже не так неинтересно?
— Да, это убыстряет слишком жизнь. Делает ли оно ее интересной? Не знаю. Можно запутаться. Мне и так нормально. Я не испытываю никаких проблем. Телефон есть, и все. Могу созвониться, если что.
— Были какие-нибудь концерты, которые вам особенно запомнились?
— Мне дико понравились Sonic Youth, когда они приезжали к нам в 1989 году.

— Красивая еще такая афиша была, русскими буквами написано «Соник Юф» . К сожалению, я только афишу видел. Я тогда под стол ходил.
— Да, да. А я был на их единственном концерте, было классно, потому что я рок-музыку того времени не очень люблю, но то, что делали Sonic Youth, мне очень понравилось. Там превалировал такой звуковой хаос, лучше, чем на пластинках. Энергетика была такая, что пробивала всюду, сразу.
Еще я не раз посещал фестивали современной музыки XX века, всяких авангардистов наших советских — Лурье, Мосолов… Мой любимый момент — когда мы с приятелем спровоцировали шквал аплодисментов.
Между номерами люди выходили, рабочие, и начинали двигать огромный концертный рояль, чтобы освободить место для следующих выступающих. И они с таким энтузиазмом, с таким диким скрипом его двигали, что мы начали аплодировать, и весь зал стал аплодировать, получился такой рев аплодисментов.
Я это воспринимал как вставной номер между пьесами Мосолова и Лурье, дикий скрип рояля. «Вот как надо играть!» Мне понравилось, потому что я воспринимал и паузы между номерами тоже как часть музыки.
— Вообще самое интересное обычно происходит неожиданно. Когда что-то срывается или…
— Абсолютно согласен. Это, на самом деле, самое трудное. Желательно сделать так, чтобы эта неожиданность была запланированной. Я, в принципе, всю музыку воспринимаю как шумовую вещь. Все паузы в ней, любые поломки… Все это ткань звуковая. Я воспринимаю все вообще как звук, как музыку, как шум.
— Открыл окно и слушай.
— Да. То есть я раньше ходил, слушал, как машины, тормоза там всякие, гудки. Это поначалу. Когда уже привык к этому делу… В принципе, иногда музыкальные такие решения… Я недавно пересмотрел, мне Судник все советовал: «Послушай…» Как же его? Армянский композитор…
— Тертерян?
— Тертерян, точно, да. А я помню, что он мне говорил, а я фамилию не запомнил в свое время. А потом я смотрю, показывают «Враг народа Бухарин» фильм старый 87 года. Ну, и там как раз…
А я же его знаю прекрасно эту музыку — я от нее зависал. Такие у него, знаешь, гигантские пласты такие шумовые, с симфоническими запилами.
Мне дико понравилось, послушать это с новым знанием. Авет Тертерян просто убойный.
Мне, по-моему, Судник еще подбросил дисков каких-то старых своих. Но это такая, академического плана, в основном, музыка. Относительно не так давно заинтересовал Юг Дюфур — такой французский композитор. Я в последнее время, я тяготею к совершенно радикальной такой, спектральной музыке, с непонятными сочетаниями…
— В свое время в компьютере ZX Spectrum для записи информации использовались кассеты, но при этом их можно послушать: записанное на них звучит как неистовый поток жесткого шума. Очень, очень сложный, там на каждом сантиметре магнитной пленки огромное количество информации, поэтому очень резкие изменения тембров, тонов, всего.
Один мой приятель целыми днями слушал эти кассеты в наушниках — в результате он сжег себе некоторые частоты и теперь их не слышит.
— Может мне тоже надо послушать? А если и я сожгу, что делать? Ну и хорошо…
— Они иногда, кстати, попадаются на барахолках, просто валяется какая-нибудь коробка с кассетами, они все перемешаны, ты покупаешь оттуда очень странно оформленную кассету с мыслью о том, что, наверное, там будет что-то неожиданное, а там такое.
— Издатель пластинки «Гипнотическая фаза» моего проекта «Пила» сподвигнул меня на то, чтобы заняться розысками своего собственного наследия. Что тоже интересно.

В век шизофрении человек сам ищет собственные произведения у знакомых, пытается как-то их скопировать.
Мне самому интересно, что там может найтись. Человек меняется в процессе жизни, я уже смотрю на то, что делал тридцать или тридцать пять лет назад, уже не как на свое даже, а как на работы какого-то другого человека. Как будто бы он жил в другой реальности и занимался чем-то похожим, но все равно другим. Пытаюсь осмыслить свой путь, и мне, кстати, нравится.
Я был наивным во многом технологически и художественно, и мне это нравится, я люблю диковатую наивность в искусстве. Особенно когда человек только-только начинает. Даже когда я в какой-то период рок-музыкой увлекался, мне нравились именно самые первые работы, а не то, что потом уже коммерчески развилось…
В этом что-то есть, даже Beatles интереснее всего слушать еще со старым барабанщиком, такое что-то гаражное, музыка, которую потому уже лакировали, сделали все шибко профессиональным, красивым. Так что смешно и себя поискать в том периоде. А к интервью я отношусь спокойно. Часто слышу: «Вот такое-то интервью, вы там-то говорили…», — а я этого даже и не помню.
— Это интервью выйдет на сайте «Нож», но поскольку у вас нет интернета, вы его не увидите. Получается, что это некий разговор в никуда.
