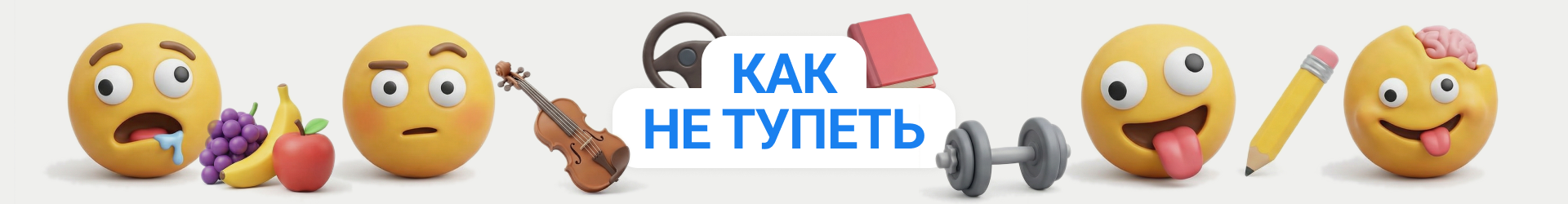Призраки белых ночей: 6 фильмов о мистическом Петербурге
С того момента, как Медный всадник сошел со своего постамента у Пушкина, стало неважно, привиделось ли это безумцу или случилось на самом деле. Что-то появилось в Петербурге такое, из-за чего любой обиженный судьбой маленький человек может присоединиться к сонму призраков, обитающих в этом городе. Там встречаются двойники, снятся вещие сны, а время застыло между ночью и днем. Календарь невозможно перелистнуть: на нем вечно мартобря 86 числа — если не в самом городе на Неве, то в посвященном ему кино. Елена Кушнир рассказывает о фильмах, в которых мистика, гротеск и абсурд оказываются формой существования Петербурга.
«Лестница» (1989)
Продравшись сквозь модернистские решетки Михайловского сада, красивый молодой человек в шляпе (Олег Меньшиков) собирается покончить с собой, спрыгнув с набережной Мойки. За ним с невероятным спектром чувств наблюдают каменные атланты Мало-Конюшенного моста. Выплывшая в белых мехах из ночи то ли девушка, то ли виденье (перестроечная суперзвезда Елена Яковлева) окриком останавливает его на краю. Подавшись вслед за ней, юноша проводит ночь в коммунальной квартире, а на утро собирается уйти. Но лестница в подъезде снова и снова возвращает его на тот же самый пятый этаж.

Алексей Сахаров — долгоиграющий советский режиссер, работавший в жанровом кино, от сказок до приключений, равно старательных и не обязательных, — кажется, по-настоящему заявил о своих возможностях, когда поставил в 1987 году кафкианский трагифарс «Время летать» по сценарию пионера рунета и биографа советского музыкального андеграунда Александра Житинского. Следующим фильмом Сахарова и Житинского стала «Лестница» — о человеке, теряющем время, место и самоуважение.
Вступительная часть, в колористическом отношении нечто между синевой джалло и оттенками американского хоррора 1980-х, запечатлена камерой крупнейшего оператора Николая Немоляева, решившегося на первый, по большому счету, цветовой эксперимент в отечественном кино, где до этого любой артхаус снимался в соцреалистических тонах. Последующее пробуждение Меньшикова в черно-белой графике, слегка размытой сепией, заслуживает всех «Золотых камер» на свете. Из окна комнаты брызжет космический бледно-лиловый, на лестничных пролетах сгущается глухая болотная зелень. Если абстрагироваться от того, что перед нами номинально советская драма о значении замкнутого круга в жизни русской интеллигенции, то это мистическое откровение. В глубоких тенях питерских коммуналок — вход в Черный Вигвам.

«Духов день» (1990)
Иван Христофоров (Юрий Шевчук) рассказывает на обшарпанной ленинградской кухне, что всегда пытался быть свободным — и вот вроде бы освободился, но бултыхается в непонятных водах. С кухни Ивана увлекает безымянная богиня в вечернем платье (Анжелика Неволина), с которой он почти готов говорить о любви, но сквозь собственные жуткие крики к нему приходит видение взрыва (может быть, он своим голосом всё взрывает). Перекинувшись в монохромное прошлое, Иван рассказывает о жившем испокон веков в его родном поселке семействе Христофоровых. И все они думают одну какую-то общую думу. И все они находят одну какую-то волшебную воду.
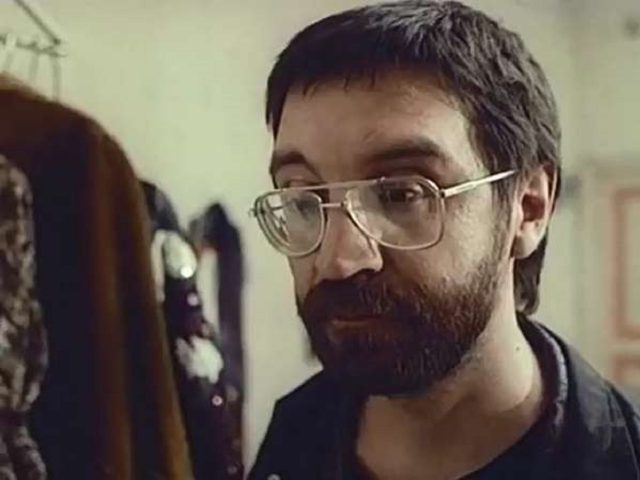
Сказание о русском роде, переложенное с языка Маркеса на перестроечный Сергеем Сельяновым, основавшим вместе с Алексеем Балабановым студию «СТВ», начинается, конечно, раньше перестройки. Сельянов ничего не скрывает за метафорами в своей сюрреалистической летописи. В селенье Христофоровых раскинулась вся история СССР, от Сталина с Троцким до мутных вод эпохи перемен, в которых мотает главного героя вместе со всей страной. За происходящим на общей коммунальной кухне мы и наблюдаем добрыми, растерянными глазами замечательного Шевчука, спрятанными за стеклами его вечных очков. С авторами студии «СТВ», включая Балабанова, никогда непонятно, в шутку они или всерьез, возмущаются или радуются, а главное — чего хотят для страны. В «Дне» тоже непонятно, нравится ли авторскому коллективу судьба Христофоровых, богоспасаемого народа, из любой воды (в одной сцене плещет неопределенное заграничное море) возвращающегося в родные выселки, но потом Сельянов будет продюсировать «Брата».

«Окно в Париж» (1993)
Школьный учитель музыки Чижов (Сергей Дрейден) получает комнату в коммуналке, хозяйка которой бесследно исчезла. Вскоре выясняется причина ее пропажи: в комнате функционирует окно в Нарнию, то есть в Париж, которое открывается на очень короткое время.
Автор сатирических фантасмагорий Юрий Мамин снимал культовые фильмы до того, как в России появилось это понятие. Его насмешливое кино отмечало вещи, говорящие о позднеперестрочном периоде и начале «дикого капитализма» примерно то же самое, что парики из волос аристократок говорили о Французской революции. Изумленный вместе со всеми соотечественниками, не чурающийся брать деньги на съемки у бандитов (больше их особенно не у кого было брать), Мамин метался между осуждением, энтомологическим интересом и предсказательством. Согласно его самому известному фильму, в последний раз окно должно открыться в феврале 2022 года — дальнейшая его судьба неизвестна.

«Русский ковчег» (2001)
Мужской голос за кадром (режиссер фильма Александр Сокуров, остающийся для нас бестелесным) рассказывает, как из некой то ли суеты, то ли катастрофы его вынесло в 1700 год, в котором на улицах Санкт-Петербурга метет зимний ветер. Представляющая его взгляд камера летает по пространству имперской истории, внутри Зимнего дворца, где мы встречаем русских царей, от Петра I до Николая II. Компанию нашему современнику составляет европейский аристократ (Сергей Дрейден, очевидно, вернувшийся из своего окна в Париж), в котором смутно опознается маркиз де Кюстин.
Ода не столько русскому искусству, впрочем, представленному в золотых рамах, сколько русскому дворянству, а также той «России, которую мы потеряли», которую было модно оплакивать в постсоветском кинематографе, снята Сокуровым одним планом, как «Веревка» Хичкока и свежая «Точка кипения». Технический шедевр, в котором бесконечно кружат по дворцовым коридорам больше 2000 нарядных статистов, визуально впечатляет достаточно сильно и погружает в пространство парадного портрета достаточно глубоко, чтобы простить довольно странное представление о русском «ковчеге», в котором нет русского народа, — одни его господа.

«Изгнанник» (2005)
Американка Сара (Энн Арчер) много лет разыскивает своего драматически ушедшего из дома сына-художника Томаса (Юрий Колокольников с кудрявыми волосами, представленный в титрах как Юрий Колокол). Наконец частный детектив находит каталог петербургской художественной галереи, которая представляет картины, очень напоминающие работы Томаса, хотя они подписаны другим автором. Женщина отправляется в Санкт-Петербург — «мистический город», как подчеркивают персонажи.
Незамысловатый российско-американский триллер представляет небезынтересный взгляд на загадочную Россию со стороны и немного сверху, откуда польский оператор Ирек Хартович снимает лестничные пролеты в питерских подъездах, в одном из которых застрял в своем дне сурка Меньшиков из «Лестницы». Под тревожные и слегка пафосные, на голливудский лад, партии советского музыкального классика Алексея Рыбникова поначалу оптимистично настроенная американка быстро теряет бодрость духа, оказываясь в какой-то момент в психиатрической больнице. И немудрено: вместо туристического каталога ее ждут кладбища, опадающие фасады старых домов и в любом столетии хранящие зловещее молчание дворы-колодцы, от которых до дурдома полшага.
«Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» (2009)
Иосиф Бродский (театральный режиссер и актер единственной кинороли, невероятно похожий на поэта Григорий Дитятковский) в Нью-Йорке смотрит на двух черных ворон, которые появились во дворе после смерти его родителей (Алиса Фрейндлих и Сергей Юрский). Закрывая глаза, он оказывается на большом теплоходе, который плывет в город его детства и юности — Ленинград. Там встречи с родными и самим собой разных лет.

Любая кинобиография отечественного автора вызывает неизбежное желание поговорить о судьбах России, тщательно перечислив, что именно не так об этом сказал режиссер. Поэтому стоит оказать себе услугу и на время просмотра забыть о большой родине, оставив малую, которая у каждого человека своя. Грандиозный мультипликатор Андрей Хржановский населяет родину Бродского миллионом вещей, говорящих не меньше, а то и больше артистов. Кадры переполнены предметами, как голова забита воспоминаниями. Синее трофейное кимоно, привезенное из Китая после войны. Крошечный телевизор в полутора родительских комнатах. Кружевные занавески, сквозь которые дрожат архивные пленки с изображениями Спасо-Преображенского собора. Очень красная икра из «Книги о вкусной и здоровой пище». Белый снег, серый лед. Рыжий кот и много других котов. За кадром — проза Бродского. Город стоит, не меняясь, над ним летают то немецкие бомбардировщики, то музыкальные инструменты (целый парад), то многозначительные облака. Это не магический реализм, не абсурд с мягкой улыбкой, даже разговоры с умершими родителями, которые тут всегда — старики. Но есть ли большая фантасмагория, чем наше тоскующее по прошлому воображение?