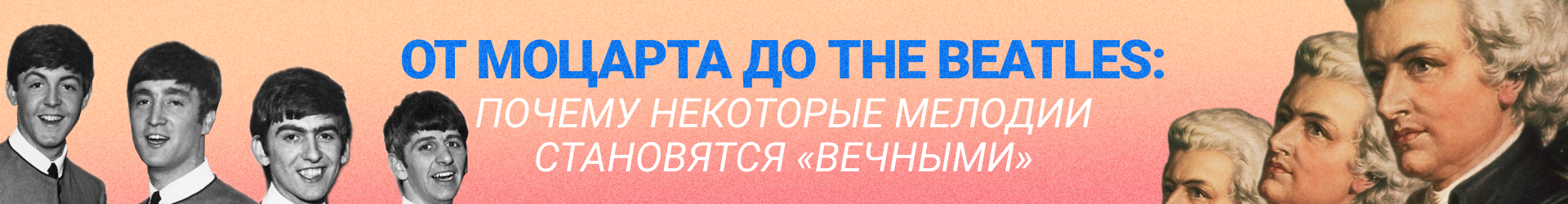Певец бездомничества: изгнание, память и подвиг в творчестве Владимира Набокова
Владимир Набоков уехал из России совсем молодым и не успел приобщиться к Серебряному веку, однако стал символом эмигрантской литературы. Память о детстве и родине сформировала ключевые для него эстетические принципы. Набоков воспевал бездомничество — но при этом имел в виду не только реальные скитания. Рассказываем, как работа памяти, а также мотивы изгнания и подвига определили его творчество.
Владимир Набоков покинул Россию, когда ему было всего 20 лет, в 1919 году. Потом в его жизни было многое: обучение в Кембридже, Славянское общество, переводы, энтомология, Берлин, Париж, Америка и Швейцария. Он стал живым классиком и стал финансово успешным благодаря публикации «Лолиты», которую изначально написал на английском. Тем не менее Набоков считается символом отечественной изгнаннической литературы и главным русским эмигрантом. И это несмотря на то, что на страницах романов он вступал в ироническую полемику с драматическими обертонами авторов русского зарубежья.
Тема эмиграции принесла ему известность не только из-за сюжетов, но и потому, что задала главный художественный механизм его творчества.
Ключевым приемом Набокова стала направленная работа памяти — навык, который мог разработать только человек, который постоянно вглядывается в прошлое и собственные внутренние пределы.
Поразмышляем о том, что он там обнаруживал и почему все произведения писателя пронизывает тоска по чему-то неясному и ускользающему.

Мимесис ощущений и воображения
«Непревзойденный стилист» и «литературный новатор» — пожалуй, самые частые определения, которыми награждают Набокова.
Стиль Набокова узнаваем благодаря точному подбору слов, фонетической и смысловой игре, лаконичным словесным загадкам, которые заставляют читателя задуматься, раскручивая образ в уме: «длинное акулье облако фиолетовой черноты», «абажур, кругосветно украшенный полупрозрачными изображеньицами». Так, у нелюбимого им Достоевского в обход всех моральных рассуждений писатель признавал находкой разве что коньячный кружок от рюмки, отпечатавшийся на столе в беседке Карамазовых.
Набоков стремился к максимальной зримости в тексте.
Эта визуальная яркость и передача других физических опытов ощущений и восприятий представляют собой так называемый мимесис чувственности, который во многом определил набоковскую манеру письма.
Мимесис — эстетический принцип, основанный на подражании реальности.
Кроме оригинальных художественных образов и смелых приемов (предложение на целую страницу — пожалуйста), новаторство Набокова состоит в принципиальном углублении репрезентативной составляющей. Классический мимесис еще с античных времен предполагает изображение вещей реального мира таким, какой он есть. Но со временем предметом изображения стали сны, видения, иллюзии — внутренняя жизнь героя как самостоятельная реальность. Сам художественный сюжет стал новым методом восприятия мира.
Реалистический подход к изображению остался в классическом романе, форму которого переосмысляет Набоков. Он внедряет нетипичные построения, сплетает рефлексию и реальность, вводит ненадежных рассказчиков, которые грезят наяву, скрывают свои мотивы или откровенно дурачат читателя.
Такой способ репрезентации — «мимесис воображения» — позволял Сирину (под этим псевдонимом Владимир Набоков публиковался до отъезда в США) не давать четких ответов о том, что случилось на самом деле. События его романов не требуют единственно верной трактовки. В них возможны открытые и непрозрачные финалы, как в «Подвиге», «Защите Лужина», «Лолите». Насквозь сюрреалистичное «Приглашение на казнь» и поздние романы, например «Бледный огонь», оставляют широкое поле для интерпретаций.
«Великие романы — это прежде всего великолепные сказки… Литература не говорит правду, а придумывает ее».
Владимир Набоков
Память, говори
Из России Набоковым удалось вывезти только некоторые фамильные драгоценности (местоположение материнского тайника в 1917 году выдал восставшим швейцар, но и спасенного хватило на обустройство в Берлине). Однако кое-что отнять было нельзя.
Ключ к набоковским формам репрезентации — память, запускающая работу воображения. Именно она стала движущей силой его эстетики.
В мемуарах «Память, говори» (более ранний вариант — «Другие берега») писатель бесконечно инвентаризирует неотчуждаемые сокровища: дырочки штепселя за диваном, гранатово-красное пасхальное яйцо, скрип плетеной бельевой корзины, двухаршинный карандаш, который служил рекламным антуражем в лавке и был выкуплен матерью для утешения заболевшего Владимира.
Важную роль в авторской работе памяти играют ассоциативные цепочки, собранные знаменитым синестетическим даром: один образ цепляется за другой, визуальное сливается с аудиальным в полисенсорном танце. Память как способность вызывать в представлении ощущения и восприятия — необходимый писателю инструмент, поэтому Набоков стремился довести его до совершенства. Не зря Марсель Пруст, которого он очень ценил, отправлялся на поиски утраченного времени вслед за вкусом печенья «Мадлен». Занимая не самые почетные позиции в классических иерархиях чувств, запахи и вкусы заслуженно считаются главным триггером воспоминаний.
«Допускаю, что я не в меру привязан к самым ранним своим впечатлениям; но как же не быть мне благодарным им? Они проложили путь в сущий рай осязательных и зрительных откровений», — писал Набоков.
Его возвращение к утерянному прошлому происходит через восстановление чувственного опыта. С помощью скрупулезных описаний, воспроизводящих звучание слов, характер прикосновения, особенности вкуса, перформативно проигрываются переживания. Пространство его романов — это «дворец памяти», в который автор приглашает читателя.
Не зря, когда реальность переписывала и дополняла детские воспоминания — случайно узнав четверть века спустя, как сложилась судьба его учителей, Набоков отмечает, что запомнил их другими, — писатель негодует, словно пережил вторжение:
«Эти вести меня странно потрясли, как будто жизнь покусилась на мои творческие права, на мою печать и подпись, продлив свой извилистый ход за ту личную мою границу, которую Мнемозина провела столь изящно, с такой экономией средств».
Можно предположить, что создание художественной реальности, более настоящей, чем «реальная реальность», во многом помогало ему справляться с травмами, хотя сам Набоков отчаянно восстал бы против такой трактовки. Непримиримый ненавистник теории Фрейда, он отвоевывал у венских докторов пространство памяти и детских переживаний. Психоанализ, который отдает полет воображения на откуп учению о сексуальных комплексах, писатель считал вульгарным и много критиковал.
Однако Набоков не просто вспоминает, а рисует прошлое идеальным. Возможно, его память имеет больше отношения к воображению — как и всякая репрезентация, представляет собой не факты, а оттиск в уме воспринимающего.
Воображение родственно памяти, поскольку тоже предполагает создание образов, ныряние в виртуальное пространство.
Таким же образом, как ненадежны рассказчики в его романах, вымышленной (в той мере, в какой всякая литература есть создание своего мира) может оказываться и его автобиография. Ведь прошлое, родина, детство у Набокова — не реальность, а символ, потерянный Авалон.
«Я думаю, что память и воображение принадлежат к одному и тому же, весьма таинственному миру человеческого сознания… Есть в воображении нечто такое, что связано с памятью, и наоборот. Можно было бы сказать, что память есть род воображения, сконцентрированного на определенной точке».
Из беседы Набокова с Пьером Домергом
Изгнание: фактическое, языковое и экзистенциальное
Одержимость Набокова ностальгическими переживаниями была следствием его судьбы. Его история была частью опыта многих белоэмигрантов, которые вывезли за рубеж воспоминания о родине, язык и культуру. Они видели свою миссию в том, чтобы из этого материала создать за рубежом «вторую Россию». Эмигрантское движение обогатило Европу своим творчеством и новыми синтезами, но к 1930-м годам, и без того неоднородное, стало распадаться. Его культурный мир не выдержал вызовов среды. Одни ощущали, что писать на русском за границей — то же, что выступать перед пустым залом, других мучило размежевание с подросшими детьми и отсутствие преемственности, третьи страдали из-за того, что у сообщества не было общей стратегии.
Многие изгнанники (например, пассажиры «философского парохода» — русские религиозные философы, евразийцы, монархисты) размышляли о России и ее пути куда больше воспитанного в западническом духе Набокова. Тот ценил «свою» Россию и творческие возможности, которые открывала рефлексия о личном прошлом.
«Мои чувства остались в точности теми же, что и в 1919 году, когда я покинул Россию навсегда: все, что имеет для меня значение, — это русская литература прошлых эпох да сверкающие и поныне тропинки моего детства. С Россией покончено. Это сон, который мне приснился. Я придумал Россию. Всё кончилось плохо».
Владимир Набоков в 1960-е
Семья осела в Берлине, но Германию Набоков никогда не любил. К тому же его супруга Вера Слоним была еврейкой. Когда в стране подул тревожный ветер перемен — в «Других берегах» говорится о том, как писатель указал маленькому сыну на сходство анютиных глазок с беснующимися на этом ветру «маленькими гитлерами», — семья переехала в Париж. Однако немецкая оккупация вынудила их покинуть и Францию. Тогда Набоков отправился в Америку. Оставив Старый Свет, он стал эмигрантом вдвойне, уже не только как русский, но и как европеец.
Здесь он предпринял беспрецедентный для литератора-эмигранта шаг: решил писать на чужом языке. Это означало, что придется становиться писателем заново. Для сына родителей-англоманов задача оказалась решаемой. В «Других берегах» отец Владимир Дмитриевич Набоков заметил, что сыновья отлично читают и пишут по-английски, но не знают русской грамоты, и срочно позвал учителя. Выражения вроде «за брекфастом привозимый из Лондона яркий паточный сироп, golden syrup…» свидетельствуют об этой билингвальности. Так или иначе, Набоков действительно сумел избавиться от проклятия «пустого зала», перейдя на английский, и добился известности. Произведения Сирина, который канул в Лету после переезда в США, на Западе открыли после успеха Владимира Набокова.

Последней родиной оставался для него русский язык. Считая английский гармоничным и отлично подходящим и для абстракций, и для называния предметов, он признавал: «Мой английский всего лишь эхо моего русского». Так же, как в России разрушались великосветские дворцы, пропадал и «дворец памяти». Родина бледнела вместе с языком. Эту трагедию отражает история авторского перевода «Лолиты», который самому писателю показался неуклюжим:
«Я убедился в пропаже многих личных безделушек и невосстановимых языковых навыков и сокровищ; мутит ныне от дребезжания моих ржавых русских струн».
За скандальностью книги часто не замечают, что это не только история о профессоре и нимфетке, но и метафора того, как человек из старой аристократической Европы остается чужим для американского мира.
Хотя Набоков, кажется, искренне полюбил Америку, этот мотив бесприютности и заброшенности прослеживается в романе. Возможно, извращенная страсть Гумберта Гумберта — только частный случай характерной для набоковских героев «инаковости», которая здесь сообщена злодейству, а не гению. В разных произведениях повторяется тема скрытого и невыразимого отличия героя от других людей, будь то дар Годунова-Чердынцева в одноименном произведении, шахматный талант аутичного Лужина или «гносеологическая гнусность», в которой обвиняют Цинцинната Ц.
Благодаря гонорарам за «Лолиту», которую сперва решилось опубликовать только издательство, специализирующееся на порнографии, Набоков смог вернуться в Европу. Он поселился в Швейцарии, которая стала его последним прибежищем, но не изменила магистральных мотивов творчества, которые есть и в последних романах.
Тема изгнания для Набокова неоднозначна. С одной стороны, она предполагает ностальгическую печаль и трагедию одиночества. С другой — жизнь на родине всё равно не могла бы разрешить это принципиальное одиночество. Не зря в автобиографии Набоков крайне редко упоминает о братьях и сестрах (хотя их было четверо!): главным предметом его мнемотехник был он сам. Через все произведения проходит тема «сладости» изгнания — гаранта исключительности, избранности.
«В великолепную швейцарскую осень он впервые почувствовал, что в конце концов он изгнанник, обречен жить вне родного дома. Это слово „изгнанник“ было сладчайшим звуком. […] Блаженство духовного одиночества и дорожные волнения получили новую значительность. Мартын словно подобрал ключ ко всем тем смутным, диким и нежным чувствам, которые осаждали его».
Владимир Набоков «Подвиг»
Изгнание — не только романтическая поза, но и экзистенциальная позиция, которая была близка писателю. Если верить философам-экзистенциалистам, обреченность на свободу приносит ответственность за обретение сущности через существование. Как же набоковские герои распоряжаются своей ответственностью и что обретают?
Зачем героям Набокова подвиги?
В странствиях, если верить мономифам, всегда случаются испытания. За порогом дома поджидают драконы, с которыми приходится сражаться. Здесь-то и совершается подвиг: победа над страхом и слабостью, преодоление, превращающее странника в рыцаря. В легендах и ритуалах, которые воспроизводят сакральную историю, герой переживает инициацию и гибнет, чтобы так или иначе воскреснуть к новой жизни.
Всё начинается с тропы, которая уходит вдаль, — метафоры жизненного пути.
В самом буквальном виде виде тропка, уводящая в лес, проходит через роман «Подвиг». В нем рассказывается о юноше по имени Мартын Эдельвейс, над детской кроватью которого висела акварельная картина с тропинкой, теряющейся среди деревьев.
От революции и Гражданской войны его семья бежит в Европу. Вполне обеспеченный и сытый Мартын поступает в Кембридж, изучает русскую словесность и бездельничает среди респектабельных европейских приятелей, живущих «твердой, основательной жизнью». Но несмотря на убаюкивающее благополучие вокруг, он вынашивает дерзкий и странный план — перейти советско-латвийскую границу на двадцать четыре часа. Что и совершает в финале, который, как водится, остается туманным: Мартын просто пропадает.
Сохраняя черты классического романа (история семьи героя, его детство, жизненные вехи) «Подвиг» своим открытым финалом оставляет главное событие повисшим в пустоте. Мотивации Мартына туманны, а его деяние вопиюще непрактично. Этой бессмысленности не могли простить критики, которые то не находили в тексте должной оценки поступка молодого человека, то сообщали ему отсутствующую политическую мотивацию (например, записывали Мартына в эмигрантские антибольшевистские движения младороссов и солидаристов). Однако шпионить герой не хотел; ничем оканчивается и его общение с людьми, имеющими отношение к секретным переходам границ. В конце концов, юный Эдельвейс мог купить билет и въехать в СССР легально.
Вояж кажется бессмысленным, если оценивать его в категориях пользы. Однако речь именно о лишенном практичности действии. Мартын совершает жизнетворческий акт, пытается воплотить миф и раскрыть в себе героическое начало. Пойман он пограничниками и расстрелян — или действительно «прыгнул в картину», ушел в виртуальность воображения?.. Набоков чурается определенности, ясно только, что вместо размеренного существования Мартын пытается обрести собственную сущность.
Возвращение в Россию — это путь из мира практической пользы в мир мифологемы.
Воплощение мифа восстанавливает сакральную составляющую существования и оживляет душу.
Литературоведы неоднократно отмечали автобиографические мотивы романа. Совпадают основные жизненные вехи героя и автора; Набоков-лирик раз за разом обращается к мечтам о героике:
Оцепенелого сознанья
коснется тиканье часов,
благополучного изгнанья
я снова чувствую покров.
Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
и весь в черемухе овраг.
В другом стихотворении, которое посвящено видению собственной смерти, он перефразировал известные строки Николая Гумилева:
И умру я не в летней беседке
от обжорства и от жары,
а с небесною бабочкой в сетке
на вершине дикой горы.
В творчестве Сирина хорошо заметен «гумилевский след». Владимир Набоков называл Гумилева, который занимал в его юношеском пантеоне место рядом с Пушкиным, «русским поэтом-рыцарем». Однако основателя акмеизма действительно расстреляли — у него были ночь, звезды и Россия, куда он вернулся после революции, пока многие ее покидали. Поэтому можно предполагать, что история Мартына Эдельвейса перекликается с поступком Гумилева, который соединил литературу и жизнь в личном «пути конквистадора».

Что такое изгнание и подвиг у Набокова?
Тема изгнанничества у Набокова многослойна. С литературной точки зрения он был наследником символистов, которые, в свою очередь, вдохновлялись немецкими романтиками. Отсюда воспевание детства как духовной родины, золотого века, таинственной заповедной страны. Набоковский мимесис чувственности и воображения (то есть изображение ощущений и иллюзий) соотносится с «двоемирием» символистов: пространство потерянной родины и грез о неслучившемся куда интересней реальности. Даже деконструируя классические традиции и изобретая собственную поэтику, Набоков остается верен мифологеме странника в чуждом мире.
С социально-философской точки зрения драма русской эмиграции наложилась на общие для всего западного мира начала ХХ столетия проблемы: рост индустриализации, атомизация людей, разрушение универсальных ценностей.
В переломные эпохи человек всегда оказывается скитальцем в пустыне. А дальнейшие события века разбросали людей по планете еще сильнее.
Осовремененный вариант петляющей тропы, дитя индустриального века — железная дорога. Поезда занимают важное место в творчестве вечного путешественника Набокова:
Как часто, как часто я в поезде скором
сидел и дивился плывущим просторам.
Существует и более широкий бытийный горизонт: изгнание из рая на землю, бездомничество человека в странствии, которое называют жизнью. Странников вроде Мартына Эдельвейса мучает ощущение бессмысленности и томление.
Так что за дракон ждет героев Набокова в «благополучном изгнаньи»? Это духовная смерть, которая делает сознание «оцепенелым», метафизические омертвение. Этим Набоков со всей его игрой слов и форм отличается от писателей-постмодернистов: в его мире сохраняется тоска о забвении вечного истока души. Там, где все дороги заранее определены, мы теряем таинственную тропинку, которая ведет в неизвестность. Метафизическая смерть преодолевается через подвиг, опасный и бессмысленный перформанс для Того, кто, может быть, еще смотрит.
Подвиг здесь — это обретение самости через поступок.
Однако в произведениях Набокова этот процесс не завершен, мы расстаемся с героями в становлении. Их поступки неоднозначны и, возможно, не совершены на самом деле, будь то поход в «Подвиге» или фантасмагория во второй части «Лолиты». Персонажи мечтают отыскать тропу, которая приведет к чему-то триумфальному и подлинному, раз за разом гонятся за ускользающей бабочкой и теряются в пустоте.