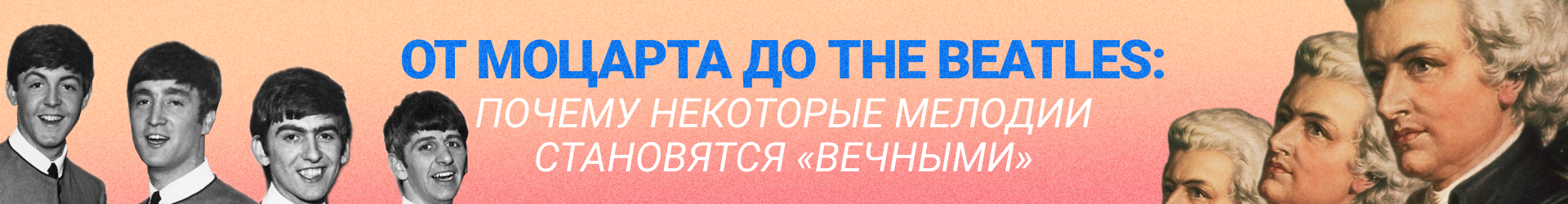Новая этика безумия. Темный коуч Лорд Тритогенон — о том, почему нам всем нужно сойти с ума
Безумие — последнее прибежище свободолюбивых натур, которые стремятся вырваться из цепких лап тотальной власти. Во всяком случае, именно так считает темный эпистемолог Лорд Тритогенон, приготовивший для читателей «Ножа» небольшую экскурсию по Идеальной психиатрической больнице — зимой и летом в этом достопочтенном учреждении царят равноправие, подлинное творчество и свет истины. Настала пора удостовериться в том, о чем все мы и так уже давно догадывались: норма — это сумасшествие, а сумасшествие — норма.
Александру Секацкому и Вернеру Гейде
1. Идеальная психиатрическая больница
Философ Михаил Рыклин в книге «Пространства ликования» заметил, что в тоталитарном обществе власть проявляет себя через архитектуру сооружений, сугубо утилитарное назначение которых не предполагает особой помпезности. Яркий тому пример — построенные при Сталине участки Московского метрополитена: каждая его станция представляет собой архитектурный шедевр, и даже скамейки в метро изготовлены с запредельной заботой о человеке. Сравните эти станции с подземками, выкопанными в либерально-демократических городах вроде Нью-Йорка или Парижа, и вы с легкостью поймете мысль Рыклина.
Таким образом, тотальность власти выражается в стремлении превратить всякое общественное пространство в пространство торжества. Если согласиться с этим наблюдением, то логичным будет предположение, что обрести подлинную демократию можно через превращение всех общественных пространств в пространства скорби и уныния. По-настоящему свободно дышится лишь в местах, аккумулирующих боль и забвение: на старых кладбищах с поваленными крестами, в спортзалах провинциальных школ и, конечно же, в психиатрических больницах, которые прежде так и называли — «домами скорби».
Неспроста советский поэт Александр Кондратов писал:
Я хочу в сумасшедший дом
к моложавым простым идиотам.
То есть: «Я хочу стать свободным», «I want to break free».
Примечательно, что строки эти были написаны в 1960-е — в годы, когда в Советском Союзе переживала расцвет карательная психиатрия, направленная против диссидентов (к которым относился и Александр Кондратов). В демократической Европе примерно в то же время Мишель Фуко подробно опишет психиатрические институты как часть государственной машины насилия, занимающейся принуждением к убогой нормативности.
Примерно за полстолетия до Кондратова схожие мысли выразил поэт-эгофутурист Константин Олимпов, написавший накануне Первой мировой войны:
Я хочу быть душевно-больным,
Чадной грезой у жизни облечься,
Не сгорая гореть неземным,
Жить и плакать душою младенца
Навсегда, навсегда, навсегда.
Надоела стоустая ложь,
Утомили страдания душ, —
Я хочу быть душевно больным!
Каждый человек, мало-мальски критично относящийся к окружающей действительности, может лишь присоединиться к этому признанию-призыву, но с одним важным уточнением: «Я хочу быть душевнобольным, помещенным в Идеальную психиатрическую больницу». Что же это за учреждение, спросите вы, и мы ответим.

Идеальная психиатрическая больница — это социальное государство в миниатюре. В Идеальной психиатрической больнице все изначально равны и равноправны. Стремление внешне выделиться из толпы оригинальной прической, одеждой, кулинарными привычками и тому подобным свидетельствует об унификации личности в обществе тотальной нормативности и проистекающего из нее тотального неравенства. В Идеальной психиатрической больнице персонал пристально следит за тем, чтобы у каждого был необходимый минимум для комфортной жизни: одежда (одинаковая у всех), четырехразовое питание (тоже одинаковое для всех, кроме пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, для них блюда готовятся отдельно), средства личной гигиены, доступ к санузлу, а также минимальное личное пространство: кровать с чистым постельным бельем и прикроватная тумбочка. Предметы роскоши здесь запрещены — ничто не должно даже на уровне символического нарушать равенство граждан. В идеале запрещено и время (самый дорогой и невосполнимый ресурс) — ни у пациентов, ни у персонала не должно быть наручных часов.
Ни цвет кожи, ни пол, ни сексуальная ориентация, ни любая иная идентичность здесь не могут быть средствами получения привилегий.
Привилегии в Идеальной психиатрической больнице достаются только заслуживающим того представителям сообщества, демонстрирующим готовность к сотрудничеству с врачами и персоналом для достижения общей цели. Но и привилегии здесь подлинные, а не симулятивные, как в капиталистическом обществе потребления!
Привилегии в Идеальной психиатрической больнице — это доступ к больничной библиотеке, спортивному инвентарю, художественной мастерской и иным продвинутым средствам досуга и саморазвития. Членам сообщества, не заслужившим привилегии, для досуга и саморазвития предоставляется базовый набор: шахматы, шашки, нарды и тому подобные тихие игры. Главврачом в Идеальной психиатрической больнице трудится Ди Ди Джексон:
В Третьем рейхе людей с ментальными особенностями признавали расово неполноценными и уничтожали. Но дальнозоркая Клио в итоге разглядела, кто был подлинными безумцами. В Идеальной психиатрической больнице у пациентов регулярно берут биоматериал, чтобы на его основе создать новую расу, которая придет на смену смертельно больному человечеству.
Идеальная психиатрическая больница раскрывает истинную природу творчества. Художник, оказавшись в Идеальной психиатрической больнице, берет лист бумаги и пытается рисовать так, как привык, однако вместо рисунков у него получаются лишь разрозненные линии и, если повезет, фигуры. Поэт, взявшись сочинять стихотворение, вскоре приходит к выводу, что все слова и даже звуки на самом деле лишены какого-либо смысла. Скульптор здесь способен, подобно самому маленькому ребенку, лишь раскатать колбаску из пластилина. Музыкант же вскоре осваивает навык не слышать и не мыслить ничем, кроме абсолютной тишины. В Идеальной психиатрической больнице пространство творческой мысли подвергается тотальной зачистке. Метафизическое пространство творчества отдается в полное распоряжение единственной дисциплине — богословию, которое может выражаться в поэзии, музыке, живописи и скульптуре, не являясь при этом ни тем, ни другим.
Вот художник нарисовал линию, точку и чертика — так изобразил он мир, сотворенный Господом, и себя в нем.
«Облака мои серебристые / Отчего же вы все ребристые?» — задался вопросом поэт, и сквозь его мнимую бессмысленность в нас всматриваются тихие глаза Христа. Музыкант полчаса клацал зубами и тем самым подтвердил написанное Блаженным Августином, Фомой Аквинским и Николаем Кузанским. Скульптор плюнул на палец и постиг преходящесть материи.
Вульгарные атеисты любят повторять мантру: если человек разговаривает с кем-то несуществующим, его отправляют в психушку; если человек делает то же самое в церкви, его называют верующим. Подобная логика стала возможной лишь в мире той самой убогой нормативности, в которой безумие было объявлено нормой, а норма — безумием.
В древние времена каждый человек рождался сошедшим с ума. В звездах он видел послания от небесной богини, в раскатах грома — битву подлинно бытийствующих богатырей. Всё в этом мире разговаривало с ним, рассказывало ему бесконечную историю жизни. И люди не просто слушали этот рассказ, но и понимали его от начала и до конца. Жена Лота тогда действительно обратилась в соляной столп из-за нарушения божественного запрета. Исаак тогда действительно отвел сына на гору Мориа, но Господь отказался от его жертвы.

Понимание истинности того, что сейчас считают признаками умопомрачения, не давало иллюзорной ловушке реальности захлопнуть свой коварный механизм, названный смертью. Когда умирал шумерский царь, его подданные шли за ним в гробницу, где в муках погибали от удушья, чтобы обрести бессмертие. Психиатрическая больница — это пространство коллективного ухода в ту заветную древность.
Это свойство психиатрической больницы очень тонко уловил Арто, написавший под впечатлением от пройденного им курса электросудорожной терапии стихотворение «Заклинание мумии» (цитируем в переводе Вадима Козового):
И эти ноздри — кости, кожа, —
там, где берет начало тьма
первооснов, и этих губ тесьма,
под краской стянутых до дрожи,И медь, которой жизнь поит
во сне тебя, развеяв кости,
и взгляда призрачного грозди,
где ты, как в сети, ловишь свет,О мумия, и руки-спички,
чтоб ворошить тебе нутро,
в которых гробовая тень
обличье принимает птички,И все, во что рядится смерть,
как в прихотливость ритуала,
и шепоток теней, и медь,
где черное нутро слиняло, —Тебя ловлю я в эти сети
средь выжженных венозных троп,
и медь твоя, как мой озноб, —
вернейший роковой свидетель.
Лирический субъект, в данном случае тождественный автору, прикасается к безднам прошлого и будущего не через мещанский взгляд на мумию, выставленную на позорное любование в Пушкинском музее, а через буквальное превращение в нее — искусно препарированную и высушенную ради вечной жизни. Психически больной, изувеченный электрошоком, он находится в прошлом и будущем, находится где угодно, но только не в настоящем. Подумайте об этом вы, твердой поступью вышагивающие against the modern world.
2. Область безымянных
Рассмотрим два произведения искусства, действие которых разворачивается в психиатрическом пространстве: новеллу Томаса Лиготти The Frolic («Шалость», на русском языке рассказ выходил в переводе Николая Кудрявцева под заглавием «Проказник») и почти документальный фильм Бретта Леонарда Dead Pit (в России известен как «Колодец смерти», «Мертвая яма» и «Голый череп»).

«Читая „Шалость“, он почувствовал себя настолько неуютно, что отложил сборник» — так Давид Кинан в книге «Эзотерическое подполье Британии» описывает реакцию мяукающего шизофреника Давида Тибета на рассказ Лиготти, который нас интересует.
Сюжет этой миниатюрной новеллы в общих чертах выглядит так. Психиатр-энтузиаст Давид Мунк решил сделать хоть что-то хорошее в своей никчемной жизни и перевелся на службу в захолустную тюрьму для маньяков-убийц. У него есть маленькая дочь Норлин и чрезвычайно буржуазная супруга Лесли, которая очень недовольна мужем-дауншифтером и стремится как можно скорее возвратиться в естественную для себя среду обитания.
Однажды Давид возвращается домой и говорит жене, что они уезжают. На радостях Лесли предлагает ему заняться совместным распитием алкоголя. За бокалом неназванного напитка доктор рассказывает, почему передумал заниматься благотворительностью и решил вернуться к обычной практике.
Оказывается, в притюремной психиатрической клинике завелся интересный обитатель, которому поспешили диагностировать множественное диссоциативное расстройство идентичности.
Пациент, которого для удобства зовут Джон Доу, отправился в застенки за брутальное физическое уничтожение детей. В этом гражданине существуют тысячи сущностей, сам же он считает себя демоном из ада, а заодно намекает, что знает, как зовут дочку лечащего врача. Процитируем один крайне важный эпизод:
«„Tы знаешь, почему не можешь уйти отсюда?“ — спокойно продолжил я […].
„Кто говорит, что не могу? Уйду, когда захочу. Сейчас у меня просто нет желания“.
„Почему же?“ — естественно, заинтересовался я.
„Я только сюда попал. Подумал, что пора отдохнуть. Мои проказы иногда отбирают столько сил“».
Когда Давид заканчивает рассказ, его жена замечает, что он подарил их дочери Норлин замечательную игрушку в виде жирафа. Доктор Мунк возражает, что не дарил ребенку новых игрушек. Внезапно его настигает озарение. Он поднимается в комнату дочери, но видит в постели лишь разорванного игрушечного жирафа. Такая вот история интересная.

Теперь обратимся к кинокартине Dead Pit, вышедшей на экраны в 1989 году. Ее действие разворачивается в психиатрической больнице, куда прибыла потерявшая память пациентка Джейн Доу. На протяжении всего фильма Джейн (роль исполняет блистательная Лосон) ходит по лечебнице в белых трусах и короткой майке. Она узнает, что прежний главврач Колин Рамзи (однозначно лучшая работа артиста Данни Гокнауэра) ставил на своих подопечных негуманные эксперименты, но был благополучно застрелен коллегой насмерть.
Вскоре выясняется, что доктор Рамзи решил восстать из мертвых и явиться в больницу с целым полчищем зловредных андэдов. Ему удается отомстить коллеге-душегубу, срезав верх его черепной коробки и проткнув оголенный мозг спицей. Однако Джейн побеждает зло, затопив подвал с трупами. Перед финальными титрами мы видим, что глаза главной героини загораются красным огнем — демоническая энергия переместилась в нее, чтобы больше никогда не отпускать.
Думаем, вы уже заметили, что объединяет два этих сюжета. У них две более чем очевидные точки соприкосновения. Первая заключается если не в отождествлении безумия и смерти, то в указании на их интимную близость. Вторая же точка соприкосновения трудов Лиготти и Леонарда — имена персонажей: Джон и Джейн Доу.
Такие имена в американской традиции обычно дают трупам, которые не удалось опознать. В психиатрических больницах так называют пациентов, забывших свои паспортные данные.
В системе ценностей тоталитарных институтов психиатрии и уголовного преследования мертвецы и сумасшедшие оказываются равны в своих условных наименованиях, унифицированный стандарт которых лишь подчеркивает их полную безымянность.
Сердца белок в лесу замирают по щелчку пальцев умалишенного анонима. Мир из безобразного набора выпуклостей и впадин вновь становится идеальной полой окружностью с едва различимыми засечками стрелки, бегущей в обратную сторону — ⥀.

3. Психосомнамбулическое сопротивление и его экстаз
В древнем городе, сокрытом ото всех, кроме самых психических из сновидцев, есть трактир, в котором музицируют Дьявол и Ковбой. Внимательно вглядевшись в них, мы понимаем, что они всего лишь нечестивые аниматроники, созданные безумным воображением того, для кого даже Дьявол — лишь марионетка. Время от времени участниками этого нечестивого ансамбля становятся двойники музыкантов из группы Kraftwerk, одетые в красные рубашки.
Услышать их зловещие мелодии дано не каждому. Однако психически больной музыкант Девин Таунсенд, один из немногих побывавших в том мрачном кабаре, предпринял попытку реконструкции услышанного:
Гениальный сновидец Говард Филлипс Лавкрафт так описал эти звуки:
«В своих путешествиях они встретили бесчисленные испытания, а напоследок их ожидал несказанный ужас, который невыразимо бормотал что-то из-за пределов стройного космоса — оттуда, куда не достигают наши сны; тот последний бесформенный кошмар в средоточии хаоса, который богомерзко клубится и бурлит в самом центре бесконечности — безграничный султан демонов Азатот, имя которого не осмелятся произнести ничьи уста, кто жадно жует в непостижимых, темных покоях вне времени под глухую, сводящую с ума жуткую дробь барабанов и тихие монотонные всхлипы проклятых флейт, под чей мерзкий грохот и протяжное дудение медленно, неуклюже и причудливо пляшут гигантские Абсолютные боги, безглазые, безгласные, мрачные, безумные Иные боги, чей дух и посланник — ползучий хаос Ньярлатхотеп».
Тот город Лавкрафт назвал Кадатом и посвятил ему одно из самых зловещих своих произведений, наполненное визионерским ужасом и только им. Великий дар Лавкрафта заключался в том, что он без труда проникал в самые отдаленные уголки сновидений, выбивал ногой дверь, ведущую к ним. Однако при всем уважении к великому писателю, выводы он сделал в корне неверные.
То, что вызывало у Лавкрафта панический страх, у нас не может вызывать ничего, кроме чистой радости. То, что Лавкрафт называл безумием, мы считаем даром богов, рожденных задолго до сотворения мира. Венский наперсточник Зигмунд Фрейд приучил нас верить, будто сны — это воплощение наших подавленных желаний. Однако только самый мрачный идиот может думать, что у него есть какие-либо желания помимо тех, что ему навязало капиталистическое общество с его убогой моралью экономического роста. Обывателям снятся сникерсы и картофель по-деревенски, нам снятся циклопические башни из зеленоватого скользкого камня. В полуночной дреме им мерещатся квазиэротические фантазии, мы же видим изнанку бытия, освобожденную от плоти.
Здоровый восьмичасовой сон — это жалкая производная культуры потребления.
Психосомнамбулический истероидный сон — это революция, это наиболее радикальный метод сопротивления милитаризированному капиталистическому рынку невольников, навязывающему нам угнетение как идеал мироустройства, а раковую опухоль фашизоидной псевдодемократии как пример абсолютно здорового коллективного организма.
Свободолюбивый народ Северной Кореи закрыл глаза и погрузился в летаргию, непосредственными участниками которой на данный момент являются около 26 миллионов человек. В этом обобществленном сне они построили пригород Кадата на Земле — Пхеньян, мудрая архитектура которого в точности соответствует описаниям Лавкрафта.

Но это лишь начало.
Мир снов — это полная противоположность мира реального. А что такое реальный мир? Реальный мир — это подчиненная строгой иерархии система рабского труда и ожиревшей лени, в которой homo homini якобы lupus est. Если мир снов — его противоположность, то он являет собой бесконтрольный эгалитаристский хаос свободного творчества и стройности мысли. Поэтому спать нужно как можно больше, а бодрствовать как можно меньше. Нездоровый психосомнамбулический сон — оружие, которое, сам того не ведая, дал нам Г. Ф. Лавкрафт, персона совершенно аполитичная (радикальный аристократический расизм, который он исповедовал, в те времена едва ли считался политической позицией).
Чем больше мы спим или же просто находимся в мороке транквилизаторов, тем меньше участвуем в экономической жизни государства или любой иной системы, с которой не согласны. Попросите лечащего врача повысить вам дозу транков — таково будет ваше гражданское неповиновение. Если же вы попадете в психиатрическую больницу, при каждой удобной возможности буяньте, чтобы вас привязали к постели и обкололи успокоительными.
Помните: нет ничего прекраснее, чем молодая женщина под транквилизаторами. Рассеянный взгляд, безвольно опущенные руки, губы шевелятся в еле слышном бормотании. Такова Марианна постпсихиатрического века.