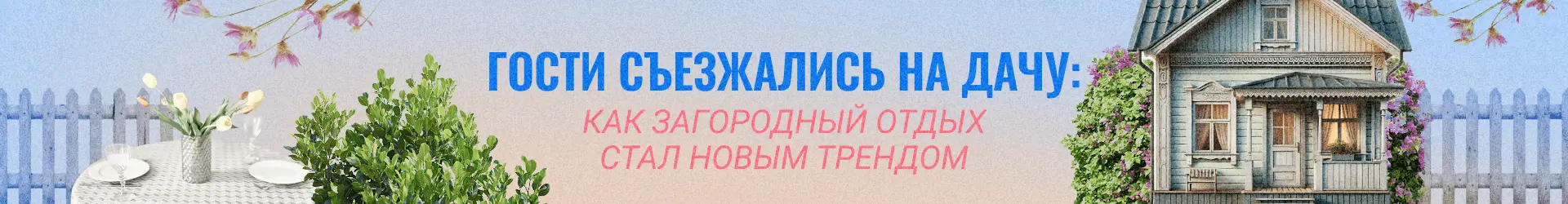Перун против глобального потепления. Почему стоит вернуться к язычеству и начать поклоняться лесам и морям
Современное язычество чаще всего ассоциируется с людьми, прыгающими через костер в странных рубахах — последователями учений, сформулированных несколько десятилетий назад, но претендующих на многовековую историю. Мы эти практики нисколько не осуждаем, но, вообще говоря, аутентичное язычество предполагало несколько большее — это были глубокие учения, объясняющие и восхваляющие связь человека с природой, единство всего сущего. Так что, возможно, неслучайно, что в эпоху тотального отчуждения человечества от окружающей среды и надвигающегося рукотворного апокалипсиса люди пытаются, как умеют, воссоздать мир, в котором ничего этого не было. Нам определенно есть чему поучиться у наших предков. Сэм Дрессер рассуждает о том, как именно языческое мировоззрение могло бы подружить нас с собственной планетой и обрисовывает контуры пантеистического культа, который взялся бы отправлять сам.
Я пишу в столовой векового семейного дома в Питтсбурге — недалеко от места, где река Огайо подступает к Аллеганским горам. Около 270 миллионов лет назад здесь были тропические отмели теплого, охватывающего весь земной шар океана, населенного огромными беспозвоночными и амфибиями, в то время как богатый кислородом воздух на поверхности был наполнен стрекозами размером с птиц и паукообразными чудовищных размеров. «Рассматривать ландшафты, которые существовали когда-то давно, значит испытывать тягу к путешествиям во времени», — пишет палеонтолог Томас Холлидей в книге «Другие земли: путешествие по вымершим мирам Земли» (2022). В ней он описывает прошлое не просто как «бесконечное пространство непостижимого времени, но… как серию миров, одновременно сказочных, но в то же время знакомых».
Это же относится к будущему, добавлю я. В конце концов энтропия разрушит все: сталь и бетон, стекло и железо, все памятники человечества. Через полмиллиарда лет место, которое когда-то было Питтсбургом, снова может оказаться в тропиках, в Арктике или на дне океана. Некоторые геологи прогнозируют, что Северная Америка станет частью будущего суперконтинента: вместе с Европой и Африкой, Азией и Австралией континенты сольются воедино, как это было во времена существования Пангеи, и тогда склон холма, на котором стоит мой маленький домик, будет погребен под слоями пород или на дне великого океана.
Конечно, к этому времени человечество давно вымрет, и нашим самым существенным вкладом в геологическую летопись будет увеличение содержания углекислого газа и, возможно, узкая полоска пластика, затесавшаяся где-то между пород. Великий философ Бертран Рассел откровенно признавался, что дрожал при одной лишь мысли о тепловой смерти космоса. В номере The Independent Review за 1903 год он писал:
«Вся наша преданность, все вдохновение, вся яркость полудня обречены на исчезновение в результате окончательной гибели Солнечной системы. Весь храм человеческих достижений неизбежно будет погребен под обломками уничтоженной Вселенной».
Действительно, если беспристрастно посмотреть в далекое будущее, нужно будет признать, что, по крайней мере, в материальном и эмпирическом плане вывод Рассела в целом верен, однако пессимистические ноты — это уже вопрос интерпретации. Лично мне больше нравится Уолт Уитмен, который за полвека до этого написал в своем поэтическом сборнике «Листья травы» (1855):
И малейший росток есть свидетельство, что смерти на деле нет,
А если она и была, она вела за собою жизнь, она не подстерегает
жизнь, чтобы ее прекратить.
Она гибнет сама, едва лишь появится жизнь.
Все идет вперед и вперед, ничто не погибает.
Умереть — это вовсе не то, что ты думал, но лучше.Перевод Корнея Чуковского
Рассел и Уитмен одинаково хорошо понимали, что ждет нас впереди, но сделали из этого разные выводы. Рассел был обескуражен, Уитмен же просто пожал плечами и стал работать дальше.
Долгое время книга Уитмена была для меня чем-то вроде секулярного евангелия. Его стихи непоколебимо материалистичны и в то же время космически трансцендентны. Это взгляд, способный смотреть на городскую улицу и представлять ее себе миллионы лет спустя, под знойным небом тропиков или под куполом ледяной арктической ночи. В этой поэзии есть ощущение глубинного времени, которое с одинаковым равнодушием сотрет как все наши пороки, так и все наши добродетели. Когда дело доходит до метафизики, я разделяю с Расселом и Уитменом материалистическое понимание Вселенной, веру в ее необъятность, а также возвышающее и ужасающее осознание нашей относительной незначительности. Но если говорить о том, как я обхожусь с этим знанием, то я, скорее, стараюсь следовать за надеждой, высказанной Уитменом, нежели разделять отчаяние Рассела. В уныние Рассела впасть легко: в его утверждении есть фундаментальная прямота, которая заслуживает уважения.
И все же я думаю, что меланхолия, порожденная переменчивым течением нашего мира, — следствие разочарования в религии, и хотя сам Рассел был атеистом (возможно, в особенности по этой причине), его повергла отчаяние невозможность поверить в христианские посулы вечности и воскресения. Относиться к атеизму серьезно — значит признать, что отказ от веры в предзаданный смысл бытия должен изменить наше отношение к Вселенной. После смерти Бога пути назад нет, но эта смерть всегда переживается через особый тип отсутствия — отсутствие религиозной веры. Нигилизм — это особая разновидность разочарования в христианстве. Мы с Уитменом не исходим из одних и тех же предпосылок, поскольку я, как бывший христианин, думаю, что проблема поиска смысла в бессмысленной пустоте Вселенной лучше всего решается с помощью пантеизма. Более того, иногда я думаю о себе не просто как о бывшем христианине, а как о начинающем язычнике.

В язычестве есть что-то романтическое — оно стремится охватить своей верой океан и атмосферу, день и ночь, Солнце и Луну. Признавать не абстракции, а только то, что человек способен видеть и слышать, осязать и пробовать на вкус. Несмотря на наше эфемерное господство над окружающей средой, мы по-прежнему ничего из себя не представляем по сравнению со всеобъемлющей природой. Это очевидный факт, который не является ни доктриной, ни аксиомой — такова реальность, данная нам в ощущениях, и именно поэтому природа заслуживает некоторой доли наших благочестивых молитв.
Люди привыкли поклоняться чему-то большему, чем они сами, и даже если я не язычник, я часто думаю, что хотел бы им быть. Теперь я хотел бы рассмотреть, какие духовные ценности передавались в этих культах через столетия и что ценного можно обнаружить в язычестве.
Сперва, конечно, нужно определить, что именно означает слово «язычество». Это дело непростое. Обычно язычество противопоставляется иудаизму и христианству; первоначально оно представляло собой политеистические народные религии древних греков и римлян, но позже определение язычества расширилось, вобрав в себя такие несхожие религии, как египетская и кельтская, норвежская и множество американских. В этом отношении можно говорить об уплощении, редукционизме, который сводит огромное разнообразие культур и систем верований в однородное целое: язычество. Однако, как это ни парадоксально, таким же образом можно ошибаться в том, чем является христианство, а также его детище — современность.
Антрополог Маршалл Салинс в вышедшей посмертно книге «Новая наука заколдованной вселенной: антропология большей части человечества» (2022) пишет, что «зависимость от могущественных сверхчеловеческих существ была условием существования человечества на протяжении большей части его истории и для большинства его обществ». Для этих существ люди обитал в «зоне имманентности». Осирис, Дионис и Локи могут быть разными богами, так же как египетская, древнегреческая и норвежская культуры отличны друг от друга, но аргумент Салинса можно расширить: существенно, что представители всех этих культур разделяли чувство благоговения перед Вселенной.
«Важно с самого начала подчеркнуть, что до XX века люди не называли себя язычниками, чтобы описать религию, которую они исповедовали, — пишет Оуэн Дэвис в книге „Язычество: очень краткое введение“ (2011). — Понятием язычества, которым мы пользуемся сегодня, мы обязаны раннехристианской церкви. Это ярлык, который христиане навешивали на других, одна из центральных антитез, которые христианство использовало, чтобы определить себя самого». В этих антитезах христианство называлось абстрактным, язычество — конкретным; первое характеризовалось как рациональное, второе — как эмоциональное; первое регулировалось Священным Писанием и доктринами, второе — чувственностью и обрядами. Быть христианином означало быть связанным с вечным потусторонним миром, в то время как язычник был целиком погружен в порочную природу.
Все эти противопоставления, конечно, являются грубыми упрощениями со стороны отцов Церкви. Они проводили подобные противопоставления в первые века христианства, игнорируя присущую евангелиям чувственность, скрытую в жертвенности, а также философские основы греко-римской религии.
Но самым важным было то, что христианство понимало человечество как нечто отдельное от изначально падшей природы, и учило, что нам было поручено властвовать над рыбами морскими и зверями полевыми. Все творение провозглашалось предназначенным для людей. Этот подход к миру природы предшествовал научной и промышленной революциям, которые обеспечили нас технологическими средствами для окончательного установления господства.
Но идея этого господства всегда присутствовала в древних западных религиозных идеалах. Теперь, когда наша среда обитания находится под угрозой именно из-за пагубной веры в наше превосходство над природой, можно ли мы назвать пагубным провал христианства, уже вполне очевидный? И чем, в свою очередь, могло бы стать современное язычество, сосредоточенное уже не пантеоне мертвых богов, но обращающееся с молитвой к природе как целому, частью которого мы являемся — той природе, которую мы можем наблюдать собственными глазами?
За последние два столетия в западных обществах произошел эпистемологический и культурный сдвиг, получивший название разочарования. Когда-то наша реальность была наполнена смыслом, а каждый камень и ручей, дерево и животное были священными, теперь же жизнь утратила трансцендентную значимость. Такая реальность разочаровывает. Осталось только то, что церковь некогда понимала как падший мир, и что сегодня позитивистская философия интерпретирует как инертный материальный мир. Мы завершили процесс, который немецкий философ XVIII века Фридрих Шиллер называл «обезличиванием» мира, а немецкий социолог XX века Макс Вебер (имя которого обычно ассоциируется именно с этой концепцией) — «расколдовыванием» мира. Политический теоретик Джеффри Грин описывает разочарование как «уход магии и мифа из социальной жизни в результате процессов секуляризации и рационализации».
Кто в этом виноват — не совсем ясно. Согласно одной версии, дело тут в в возобладании позитивистских интерпретаций науки, сводящих весь человеческий опыт к базовому материализму. Согласно другой — началом процесса «расколдовывания» стала Реформация (так считал Вебер). Кроме того, можно утверждать, что за это ответственно само христианство. У Плутарха есть рассказ о том, как египетский моряк однажды услышал эхом прозвучавшее заявление о том, что «Великий бог Пан мертв!». С подачи отцов Церкви эта легенда долгое время ассоциировалась с рождением Христа, но это также это аллегорически иллюстрирует то, как новая вера разрушила прежние отношения между божественностью и природой, человечеством и окружающей средой. Разочарование по своей сути — это отказ от язычества.
Хотя этот отказ сопровождался развенчанием оракулов и разрушением идолов, на более глубоком уровне он также стал причиной утраты связи человека с божественностью природы. Когда термин «язычество» начинает означать лишь определенный набор стереотипных ассоциаций — дионисийские обряды и орфические мистерии, колонны Астарты или каменные круги друидов, — это может заслонить метафизический смысл языческих практик.
Язычество довольно тонко понимает особые отношения между имманентностью и трансцендентностью в природе. Именно внимание к этим отношениям и составляет суть «заколдованности», которой не хватает в современном мире, по крайней мере, таким светским, образованным, секулярным агностикам, как я. В переживании трансцендентности человек способен ощутить себя частью единого, находящимся за пределами нашей реальности; благодаря имманентности он постигает божественность в материальном мире. То, что предлагает этот союз, — это синтез священного и профанного, то, что Майкл Йорк в «Языческой теологии» (2003) описывает как отмену «любой истинностной иерархии между временным и постоянным, между физическим и духовным, между этим миром и миром иным». Такое язычество устраняет философские сомнения и скептицизм, которые породили разочарование. В конце концов, вряд ли можно быть атеистом, когда речь заходит о Солнце, Луне, ветре, дожде, океане, почве.
В данном случае нет нужды понимать язычество буквально — как службу в храме Артемиды или паломничество в Дельфы (хотя оно, конечно, не исключает и этих практик). Можно быть христианином-язычником, евреем-язычником, мусульманином-язычником, атеистом-язычником. Когда я использую слово «языческий» в подобном контексте, оно относится не столько к тому или иному божеству, которому вы, возможно, молитесь, сколько к поклонению самой «заколдованной» реальности. В этом отношении язычество — это подход к собственному опыту, способ психологически переосмыслить материальность, телесность и природу, придав им божественное значение.
Если научный позитивизм и религиозный фундаментализм находят конкретность в абстракции, предполагая единую основу всего сущего, будь то Бог или физический закон, то язычество скорее находит абстракцию в конкретности, обретая самую суть духа в звуке журчащего ручья, мхе на стволе дерева или в закате над Манхэттеном.
Последний пример нужен для того, чтобы отделить интересующий нас вид язычества от пасторальных фантазий или консервативной ностальгии. Язычество, о котором я говорю, не притворяется, что единственное подлинное существование — это жизнь в землянке среди буколических рощ, а скорее стремится к возвышению любой материи в любом месте. Центральный парк — настолько же достойное место для алтаря, как и Дельфы. Бог обитает не только в лесах и морях, но и в бетоне и стекле. Такое язычество предлагает возможность подлинного переживания в настоящем и возвращение давно утраченного очарования. Оно требует любви к материальности, любви к миру природы. Природу не нужно оценивать исключительно с инструментальной и практичной точки зрения, вместо этого нужно дать своему «я» погрузиться в это великое существо.

Конечно, легче сказать, чем сделать. Безусловно, предпринимались многочисленные попытки восстановить тот или иной тип языческих верований, результатом чего стало создание десятков динамично развивающихся религиозных сообществ, и некоторые из них уходят корнями в середину XIX века (хотя заявляют порой о своем древнем происхождении). Объясняя генеалогию термина «язычник», Рональд Хаттон пишет в книге «Триумф Луны: история современного языческого колдовства» (1999), что это понятие «к XIX веку… ассоциировалось с сельской местностью и миром природы», с авангардистами духа, пытающимися восстановить или, скорее, создать новые религии, призванные быть «радостными, освободительными и жизнеутверждающими традициями, глубоко связанными как с миром природы, так и с творчеством человеческого духа».
В результате этого «возрождения» появились такие религии, как викка, а также различные реставрационистские движения, посвященные эллинскому, скандинавскому и кельтскому пантеонам. Кроме того, в это же время возрос интерес к системам верований коренных колонизированных народов по всему миру. Эти верования важны для огромного числа людей: Хаттон в 1999 году подсчитал, что только в Великобритании насчитывается четверть миллиона их последователей; перепись 2021 года установила цифру около 70 000.
Но зачем изобретать свою языческую теологию нам — тем, кто не связан ни с чем подобным и чья вера вовсе не похожа на то, что обыкновенно понимают под язычеством?
Мне вспоминается печально известный римский император IV века Юлиан Отступник. Его дядя, император Константин, провозгласил христианство официальной религией империи — Юлиан же предпочел вернуться к язычеству. Кристофер Келли в статье для The London Review of Books описывает, как Юлиан требовал, чтобы философы придумали «технически точный язык, который выразил бы их понимание природы Бога, учение о сотворении Вселенной, а также отношения между людьми и божественным».
Это должно было стать «радикальным, но при этом унифицированным и последовательным язычеством с собственными каноном священных текстов, институциональной структурой и доктринальной теологией».
Действительно ли сегодня, в эпоху, когда кризис веры выражается в бессмысленном нигилизме и радикальном фундаментализме, а отношение человечества к природе стало настолько несправедливым, что наша экономика, технологии и промышленность угрожают экологическим апокалипсисом, мы нуждаемся в языческой теологии, способной описать актуальное отношение к божественному и священному? Юлиан погиб прежде, чем его версия язычества успела стать кодифицированной верой, но его проект по-прежнему выглядит многообещающим. Как мог бы выглядеть такой языческий канон?
Размышляя над хаттоновским описанием языческих обрядов XIX века, связанных с «миром природы и творчеством человеческого духа», я хотел бы поставить вопрос: может ли у язычества быть канон, отвечающий рационализму Фомы Аквинского или пуританству Кальвина, при этом воздающий должное природе? Еще один мой любимый автор, великий предшественник Уитмена Уильям Блейк в своей книге «Иерусалим» писал: «Я должен создать систему или быть порабощен системой другого человека». Генри Дэвида Торо высказал в «Прогулке» (1851) мысль о том, что «в дикой природе заключается спасение мира», а его наставник Ральфа Уолдо Эмерсона постулировал в «Природе» (1836), что любящий природу человек — это «тот, чье внутреннее и внешнее восприятие по-прежнему соотносятся друг с другом; тот, кто даже возмужав, сохранил дух младенчества. Его общение с небом и землей стало частью его хлеба насущного».
Такие высказывания могли бы составить текст новой языческой литургии. Что до Священного писания, то для этого сгодятся «Хтонические размышления» Энни Диллард в «Пилигриме на Тинкер-Крик» (1974), где говорится:
«После единственного экстравагантного жеста творения Вселенная продолжала заниматься исключительно экстравагантностью, бросая хитросплетения и колоссы в эоны пустоты, громоздя избыток на избыток с неослабевающей энергией. Шоу было зажигательным с самого начала».
Ответ биолога Линн Маргулис и ее сына Дориона Сагана на вопрос, поставленный в названии их книги «Что такое жизнь?» (1995), заключается в том, что «жизнь на Земле больше похожа на глагол. Он заботится о себе, поддерживает себя в рабочем состоянии, воссоздает и превосходит сама себя».
Что же касается метафизики, я поддерживаю утверждение эрудита Джеймса Лавлока, высказанное в его книге «Исцеление Геи: практическая медицина для планет» (1991) о том, что наша планета «в некотором смысле могла бы быть живой — не в том смысле, как об этом думали древние, то есть что Земля — целеустремленная и дальновидная богиня, — но что она, скорее, похожа на дерево. Дерево, которое существует, никуда не двигаясь, но лишь покачиваясь на ветру, и в то же время постоянно взаимодействуя с солнечным светом и почвой».
Теперь возьмемся за теологию. В этом вопросе мое язычество опирается на пантеистический тезис голландского философа XVII века Баруха Спинозы, что «мир является необходимым следствием божественной природы», и на идеи современного немецкого философа Андреаса Вебера, который в книге «Биология чуда: живость, чувство и метаморфоза природы» (2016) описывает «поэтическую экологию», посредством которой мы можем интеллектуально и духовно вернуть «человеку его законное место в природе, при этом не жертвуя непохожестью, необычностью и благородством других существ».
Между идеями и материальными условиями существует сложная связь, и не существует всеобъемлющей и универсальной теории, способной адекватно объяснить каждый отдельный исторический случай взаимодействия между ними. Было бы наивно предполагать, что духовные ценности, о приверженности которым заявляет общество, прямо определяют человеческие действия — даже беглый взгляд на историю религиозного лицемерия показывает, насколько незначительна порой роль ценностей, декларируемых религией. Но серьезной ошибкой является и сведение вопросов веры и смысла к простому эпифеномену, дымкой над «реальными делами». Причиной того, что состояние окружающей среды за последние два столетия ухудшилось, является не только инструментальная экономическая политика (которая сама по себе являются разновидностью религиозной веры), но и культурное разочарование. Антропоцен — это катастрофический результат продолжающегося отказа от язычества.