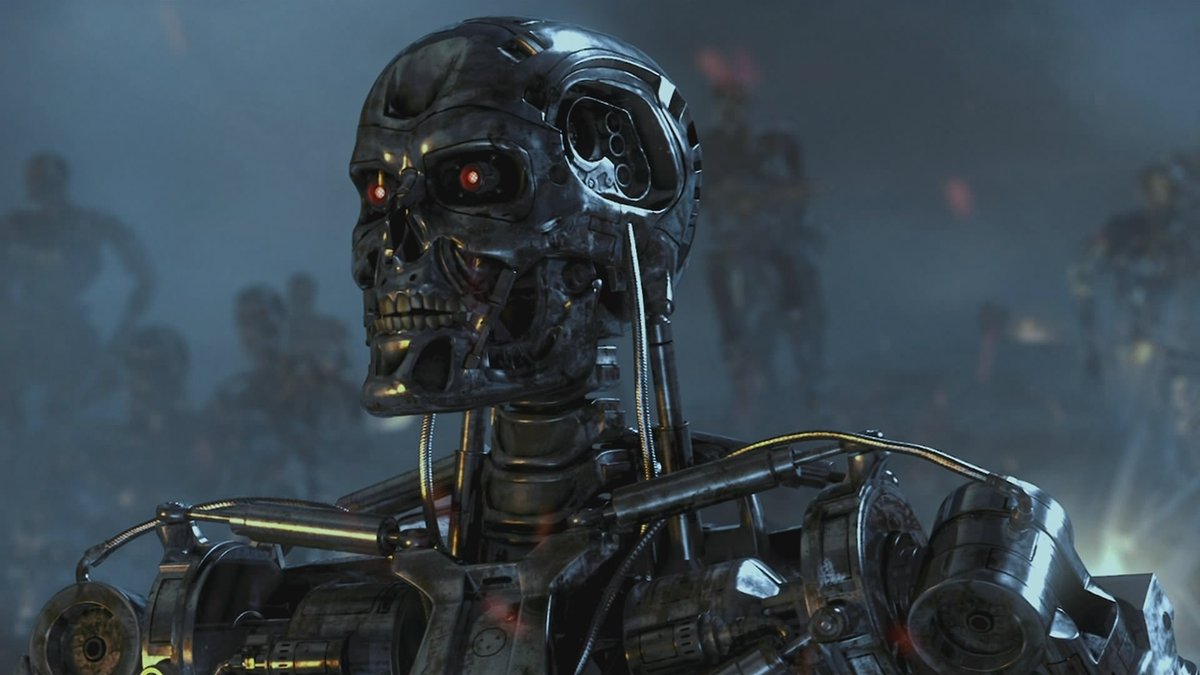Очень странные стихи: случай Павла Жагуна. Современная поэзия и weird-fiction
Во второй половине XX века теоретики культуры вдруг заговорили о том, что столкновения с необъяснимым и пугающим стали нам почти привычны, но от этого не менее интересны. Существует множество странных объектов и сюжетов, глубоко проникших в самую обычную жизнь. О том, как находить всё это в стихах, читайте в нашем материале.
Как определить, что у нас всё странно?
Понятие weird применительно к литературе используется для определения текстов, связанных с традицией Говарда Филлипса Лавкрафта и круга журнала «Weird Tales». На рубеже 20 и 21 веков этот термин реактуализируется в художественной практике писателей движения New Weird (Ч. Мьевиль и Э. Вандермеер). А в 2012 году философ Грэм Харман выпустил книгу «Weird-реализм: Лавкрафт и философия», в которой, проведя анализ поэтики Лавкрафтовских рассказов, расширил контекст weird’а в область философии.
Никакая реальность не может быть непосредственно переведена в какую бы то ни было репрезентацию. Сама реальность – weird, потому что реальность несоизмерима с любой попыткой ее репрезентировать или измерить. Лавкрафт в исключительной степени осознает это затруднение, и с его помощью мы, возможно, сможем научиться говорить что-то, не говоря этого, или, выражаясь в философских терминах, любить мудрость, не обладая ею. Когда дело касается познания реальности, аллюзия и намек – наши лучшие друзья.
Грэм Харман, «Weird-реализм: Лавкрафт и философия»
Перечислим основные признаки weird’ового текста по-Харману. Прежде всего, это провал описания объекта – строго говоря, в моменте, где рассказчику надо бы показать нам «чудовище», оно всё не показывается – иконически отсылающий к «зазорам в космосе». Кроме того, поэтика метаморфозы и монтажности, в рамках которой объекты постоянно меняются, пульсируют и «лагают».

Хармановскую картину дополнил теоретик культуры Марк Фишер: в книге «The Weird And The Eerie» (2016) год он описал генетическую связь weird’а с фрейдовским понятием unheimlich («жуткое»), объяснив его как некоторый эффект присутствия в реальности не-должного (или отсутствия должного). В русскоязычное научно-критическое поле термин weird попал как инструмент анализа, в основном, современной поэзии – к уже обозначенным признакам добавились выраженная сюжетность и перверсивная образность. Образец такого анализа мы и попробуем вам представить, входя в нарративные лабиринты стихов Павла Жагуна. Мы склонны относить повествовательность его стихотворений к категории weird-fiction и попробуем вас в этом убедить.
Ищем странное в тексте: практикум
Павел Жагун относится к той категории современных поэтов, писать о которых просто и сложно одновременно. В первую очередь потому, что Жагун самостоятельно даёт ключи к пониманию механизмов своих текстов – иногда эти ключи намеренно пародийные и открывающие совсем не те двери. Вышедшие с момента его дебюта критические тексты наметили некоторые ориентиры: авангард, популярная культура, музыкальный бэкграунд, генеративность, комбинаторика, алеаторика, ирония и, наконец, digital-практики, приглашение к творческому процессу нечеловеческих агентов и алгоритмов.
0.2.
царапины радости
вольные крестники марса
четыре пособника – тень облаками на дне
путь находит к сердцам молодой борщевик
слышишь долгая песнь – каракатица горла
что-то третье умеет проникнуть
этому нет названия
возьми у охранника черный замок
поролоновый пудинг
Павел Жагун, «Тысяча пальто»
Интересно, насколько внезапно появление образа «каракатицы горла», очень близкого weird-fiction. В этом тексте мы видим и провал описания, который не разрешается путём герменевтического усилия и восстановления опущенных звеньев. На формальном уровне создание «зазоров в космосе» и, соответственно, зазоров в описании происходит через активное использование пробелов (и других графических элементов), своеобразного аналога музыкального глитча, который, как и любая ошибка\поломка, моментально указывает на материальные основания объектов, при этом их не описывая.

Единственное, что действительно понятно, если смотреть на всё стихотворение, а не на отдельные образы, – происходит нечто, и нечто это жуткое (образы царапин, борщевика, каракатицы, мотив свободы, преступления и заключения). Головоногие существа, монстры с щупальцами, населившие страницы и телеэкраны, служат знаком того, что weird под маской «чего-то третьего» уже давно и прочно закрепился в нашей жизни, считает теоретик Ч. Мьевиль.
Распространение щупальца – формы конечности без готических или фольклорных предтеч (в «западной» эстетике) – от ситуации почти полного отсутствия в евро-американской тератокультуре вплоть до девятнадцатого столетия, до становления базовым придатком монструозности сегодня, отмечает эпохальный сдвиг к Weird культуре.
Чайна Мьевиль, «М.Р. Джеймс и Квантовый Вампир»
Особенно ярко потенциал производства зазоров и weird-нарративов продемонстрирован Жагуном в цикле «12 микророманов на молекулярном уровне». Его название указывает на явную «прозаическую» сюжетность, а также на принадлежность к (пост)авангардной традиции (от «Сдвигологии» Алексея Кручёных до стихов Анны Альчук и Ники Скандиаки). К этому циклу применимы сказанные по поводу другой публикации слова Татьяны Бонч-Осмоловской о том, что реальность стихотворений Жагуна – «пульсирующая и взаимосвязанная как сложная сеть, которую нельзя рассматривать ни как целостную массу, ни как атомизированные элементы». С одной стороны, можно прочитать каждый из двухстрочных «микророманов», не ориентируясь на их графическое написание. Тогда мы получим подозрительно прямолинейные тексты, форма которых может показаться интереснее содержания.
12.
в б е злу нн ой н очи
толь коод надо рога
(в безлунной ночи
только одна дорога)
Павел Жагун, «12 микророманов на молекулярном уровне»
С другой стороны, эффект недостаточной прояснённости сохраняется, когда содержание стихотворения становится более читаемым: почему, собственно, в безлунной ночи только одна дорога? Ответить на вопрос можно через апелляцию к внетекстовой реальности, интерпретационному усилию, традиции парадоксов в верлибрах. И, наконец, при корректном чтении, в этой полупейзажной зарисовке появляется подготовленный пробелами на микроуровне разорванный сюжет – и из зазора возникает эффект присутствия третьего: «злу», «очи», «надо рога». Провал описания и фишеровская диалектика присутствия\отсутствия воплощены в невозможности соединить два режима чтения, но и до конца разделить их нельзя.
Будущее странной литературы
Поэтическая практика Павла Жагуна не ограничивается weirdo’м, и после этого текста можно будет написать ещё много. Отдельного интереса, например, заслуживает рассмотрение поэзии Жагуна в широком материально-философском контексте с привлечением теоретиков «плоских онтологий»: допустим, с помощью модифицированных делёзианских теорий у Леви Брайанта. Ещё кажется важным отметить новые повороты методов поэта, который в своей последней книге обратился к компьютерной генерации поэтических текстов в цикле «Дигитальные стихи». Подобное техническое опосредование, отдаление поэта от стихотворения – ещё один перспективный способ производства зазоров, разрывов и weird-нарративов. Однако увидеть полноценное множество текстов, в которых нечто вторгается в человеческую жизнь в обличии умной программы, ошибки в которой одновременно кажутся случайными и зловеще значимыми, нам ещё только предстоит.