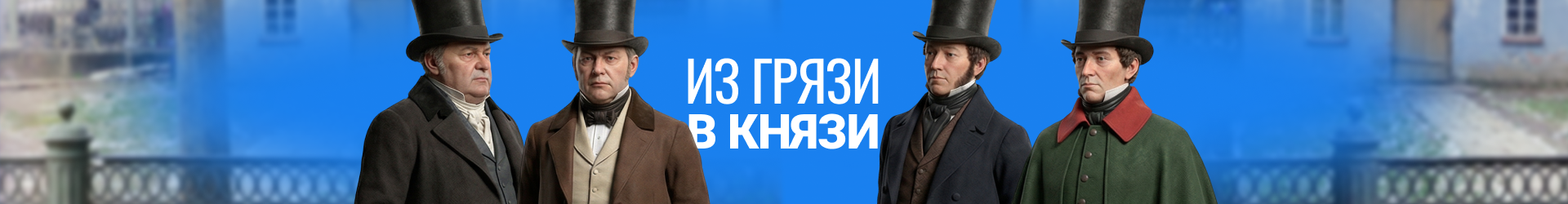От дагеротипа до дипфейка: история фотографии как история фальсификации
Нейросетевой контент уже практически неотличим от «реальных» фото и видео. Но почему нас это пугает только сейчас? И что с этим делать? Вдруг все страхи будущего — забытые и сбывшиеся опасения прошлого? О том, как с самого своего появления запечатленное на пленку изображение было средством фальсификации, размышляет историк фотографии Евгения Маркова.

История фотографии представляется и привычно подается как своеобразная история триумфа технического прогресса: изобретение камеры-обскуры, дагеротип, последующие усовершенствования, гибкая пленка, компактные камеры... Чем больше этот прогресс, тем «объективнее» становится фотокадр: более резкий и четкий, «видящий» лучше человеческого глаза.
При этом фотография с самого своего зарождения связана с фальсификацией. Первым массово обсуждаемым фотографическим скандалом стал автопортрет Ипполита Байара в образе утопленника (1840). Байар инсценировал собственную смерть, выступая против присуждения официального первенства в открытии фотографического метода Луи Дагеру. На снимке мы видим тело самого Байара, якобы вытащенное из воды: безжизненно повисшая голова, как будто мертвенно тяжелые лицо и руки. Но публика знала, что фотограф жив, потому изображение производило двойной эффект: оно обещало абсолютную достоверность и одновременно не соответствовало истине.
Неслучайно именно эта фотография стала одним из первых публичных жестов нового медиума. Объектив, который намеревался быть «невидимой рукой природы», сразу показал себя еще и как инструмент возможных спекуляций на кажущейся правде.

С этого момента и сама культура изображения начинает двигаться по странному пути: фотография обещает нам документ о моменте в прошлом, но предлагает только изображение, истинность которого нам предстоит установить самостоятельно. Вместе с тем ирония заключается в том, что именно случаи фальсификации, скандальные и громкие, делают фотографию еще более популярной, укореняя ее в культурном поле.
Смерти нет — есть только фото
Фотография никогда не входила в массовую культуру как «чистое доказательство». В XIX веке наряду с дагеротипом активно распространяется практика постмортем-портрета. Умерших детей и взрослых фотографировали так, будто они еще живы: глаза рисовали на закрытых веках, голову подпирали металлическими конструкциями, тела усаживали в кресла, имитируя естественные позы. Для семьи это должно было стать актом памяти и доказательством того, что человек «еще здесь». Но технический медиум, который должен был свидетельствовать о жизни, оказывался свидетелем смерти. Для культуры XIX века это было шоком, ведь от камеры ожидали чистой правды, а она оказалась послушным и саркастичным инструментом лжи.
XX век закрепил эту практику. Ретушь на официальных советских снимках превращала фотографию в прямое оружие власти: фигуры, неугодные режиму, удаляли с коллективных снимков. Подобно тому как с египетских рельефов сбивали иероглифы с именами побежденных фараонов-предшественников, лишая их места в истории. (Любопытствующим можем предложить к прочтению книгу Дэвида Кинга «Пропавшие комиссары. Фальсификация фотографий и произведений искусства в сталинскую эпоху», 2012.)

Но инсценировка могла стать значимым визуальным символом «подлинного момента победы». Например, знаменитый снимок поднятия флага на Иводзиме (1945) вошел во все учебники. В действительности сцена была воспроизведена повторно, потому что первый флаг оказался недостаточно крупным.
Третьим парадоксальным примером в этом контексте может стать кейс Уиллоуби Уоллеса Хупера, занимавшегося в 1876–1878 годах съемками последствий голода в Мадрасе. Снимки публиковались как репортажи и производили шокирующий эффект на западного зрителя. Но именно инсценировки, аранжировки и режиссура делали их убедительными: реальная нищета была слишком обыденна, чтобы стать символом, а театрализованная бедность и страдание наиболее ярко иллюстрировали реальное социальное явление.
Документальная фотография всегда претендовала на то, чтобы быть последним доказательством. Она обещала: здесь больше нет постановки, только сама жизнь. Но именно поэтому жизни ей было недостаточно — и ее приходилось «дополнять», «усиливать».

Катастрофа как симуляция
С появлением цифровых технологий фотография стала еще доступнее — и еще искусственнее. В 2005 году National Geographic сдвинул при помощи фотошопа пирамиды Гизы, чтобы они лучше вписывались в журнальную обложку.
А в 2008 году Министерство обороны Ирана опубликовало снимок испытаний ракеты, на который при помощи ретуши была добавлена еще одна ракета, якобы «для убедительности». Чтобы правда стала правдой, ее пришлось дополнить. Именно поэтому можно утверждать: чем доступнее становится цифровая фиксация, тем стремительнее фотография перестает быть свидетельством, она становится проектом, эстетическим высказыванием и стратегией воздействия.
Вальтер Беньямин в эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1936) писал, что техническая репродукция разрушает «ауру» произведения искусства. Но именно фотография, которая должна была уничтожить ауру картины, сама неожиданно породила новую ауру — документальности, ее начали воспринимать как след реального события, который невозможно подделать.
Самым очевидным примером этого стал теракт 11 сентября 2001 года. Кадры горящих башен Всемирного торгового центра были восприняты не как интерпретация, а как прямое свидетельство. Никому не пришло в голову сомневаться в их подлинности, потому что сама катастрофа происходила одновременно на глазах миллионов зрителей. Фотография здесь выполняла сакральную функцию: она не просто показывала, она удостоверяла мир в его фактичности. Но именно в этот момент подлинности и наступает ее конец. Если фотография обретает ауру в катастрофе, то медиа и цифровые технологии быстро учатся симулировать катастрофу.

Подлинность под подозрением
В 2018 году комик и режиссер Джордан Пил создает видео: сгенерированный нейросетью Барак Обама произносит слова, которых не говорил. Позднее появляются сотни дипфейков с участием знаменитостей, в которых их тела и лица искусственно смонтированы на чужих кадрах. И чем более правдоподобной становится симуляция, тем сильнее обнажается искусственность любого изображения. Дипфейк уничтожает ауру документальности окончательно.
Парадокс в том, что в эпоху дипфейков подлинность вовсе не исчезает. Она становится подозрительной. Подлинное фото вызывает не доверие, а тревогу: слишком легко представить себе, что оно сфабриковано, смонтировано, вырвано из контекста. Сегодня ценность изображения определяется уже не его связью с реальностью, а его способностью к распространению. Оно обретает силу не потому, что оно истинно, а потому, что его невозможно не заметить.
Вот только изображение сохраняет не реальность, а лишь ее субъективную, отобранную или срежиссированную версию. Фотография утверждает истину именно потому, что от нее всегда ожидается что-то еще — и эта нехватка заполняется фантазией, пропагандой или монтажом.
Сегодняшняя аура изображения рождается не в его подлинности, а в признании его иллюзорности. Мы доверяем картинке не потому, что она свидетельствует о реальности, а потому, что она слишком убедительно инсценирует саму возможность этой реальности. И возможно, именно это и есть новая честность изображения: оно перестает обещать истину и наконец признается в собственной лжи.