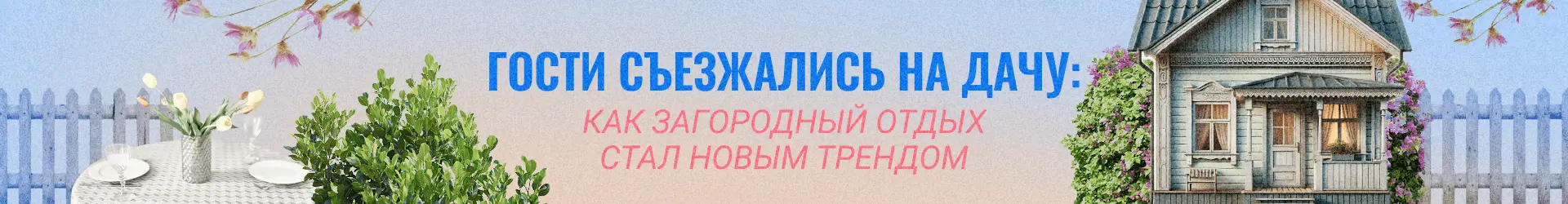«Он убил моего ребенка, а потом пришел ко мне и извинился». Как в Руанде жертвы геноцида и преступники мирятся с травматичным прошлым и друг с другом
Весной и летом 1994 года отряды военных, экстремистские группировки и местные жители Руанды из народа хуту, подстрекаемые властями и пропагандистами, осуществили геноцид против составлявших этническое меньшинство выходцев из народа тутси. Примерно за 100 дней погибло не менее 800 тысяч человек, прежде чем оппозиционным силам удалось подавить волну насилия и свергнуть преступное правительство. Однако после окончания геноцида, смены политических элит и организации трибунала, осудившего некоторых организаторов массовых убийств, преодолевать травму и учиться жить дальше пришлось самим руандийцам. Выжившие снова стали соседями с людьми, которые грабили их дома, уничтожали их родных и знакомых. Несмотря на шок от произошедшего и чувство утраты, многим тутси удалось то, что казалось невозможным: они нашли в себе силы простить преступников и даже установили с ними близкие отношения.
«Сосед пришел ко мне и сказал, что накануне умер президент и что мой народ несет ответственность за его смерть, — вспоминала представительница народа тутси Мария Изагириза, которая в начале 1990-х жила в округе Бугесера на юго-востоке Руанды. — Сосед сказал, что мои люди и я дорого заплатим за то, что сделали».
Формальным поводом для геноцида послужила гибель президента Жювеналя Хабиариманы в авиакатастрофе 6 апреля 1994 года, однако отношения между двумя народами испортились задолго до этого.
Колонизировавшие Руанду в конце XIX века европейцы обратили внимание на социальное разделение: к тутси в основном относились преуспевающие скотоводы и представители власти, к хуту — скромные крестьяне. Британцы и немцы утвердили это различие и подвели под него биологизаторское обоснование.
Посетившие Руанду антропологи сочли тутси интеллектуально развитым народом, располагавшимся на эволюционной лестнице выше хуту. В соответствии с этой установкой первые «превратились» в привилегированный класс среди местного населения, а вторые — в граждан второго сорта. Хуту и тутси, которые жили на одной территории, говорили на одном языке и исповедовали одну религию, в рамках насаждавшегося колониального дискурса начали осмыслять себя через различия.
В социальном плане хуту (примерно 80% населения) считали себя исконными хозяевами территории, которую у них силой отобрали тутси. Тутси объясняли свое доминирующее положение тем, что установили контроль над более примитивным народом. Под культурные различия подогнали даже физиологию: колонисты описывали тутси как «высоких, статных и худых людей с европейскими чертами лица», и в частности с тонким носом, а хуту — как «низкорослых, коренастых простолюдинов с крупными, приплюснутыми носами». Немцы и британцы проинтерпретировали устройство руандийского общества в духе набиравших популярность расовых теорий, чем только усугубили зарождавшуюся вражду между народами.
Как происходил геноцид
Спустя 100 лет, весной 1994 года, хуту из эскадронов смерти, останавливая на блокпостах проезжавших мимо людей, в первую очередь смотрели именно на их носы, чтобы определить этническую принадлежность водителя и пассажиров.
«Мне сказали, что тутси — наши враги, потому что у них более тонкие носы, — вспоминал один из убийц. — В ноздри хуту легко можно засунуть палец. Когда мы хотели выяснить, кто перед нами — хуту или тутси, — мы всегда пытались засунуть палец ему в нос. Если палец не пролезал, мы понимали, что это тутси».
В конце 1950-х и начале 1960-х хуту свергли короля тутси, лишили соседей привилегий и обвинили в сотрудничестве с белыми угнетателями. После того как в 1962 году Бельгия официально предоставила Руанде независимость, тутси массово бежали в Уганду и другие страны, где несколько десятилетий спустя основали партизанскую организацию — Руандийский патриотический фронт.
В 1972 году армия тутси в Бурунди, подавляя восстание, убила не менее 80 тысяч хуту, чем спровоцировала новую волну ненависти против тутси, оставшихся в Руанде. Примерно тогда же, благодаря государственному перевороту, президентом стал Жювеналь Хабиаримана, при котором положение хуту во власти и силовых структурах только укрепилось.

Оказавшаяся в эпицентре геноцида в 1994 году Мария Изагириза потеряла первого мужа и нескольких родственников в этнических конфликтах еще в 1970-х. С тех пор она снова вышла замуж и родила четырех детей, но теракт, унесший жизнь Хабиариманы, положил конец относительно мирному сосуществованию с хуту.
На следующее утро после гибели президента и предупреждения от соседа к Марии ворвались участники экстремистского ополчения «Интерахамве». Преступники перебили скот, сожгли дом и жестоко избили супруга Изагиризы.
С помощью детей, которых радикалы пощадили, женщина перетащила раненого мужа в укрытие. Знакомый предложил перевезти тутси туда, где им окажут необходимую помощь, но вместо этого передал родных Марии экстремистам. Самой Изагиризе удалось сбежать с младшим ребенком, которому было всего четыре месяца. С тех пор Мария никогда больше не видела ни мужа, ни остальных детей.
Не менее трагично сложилась судьба сотен тысяч других жертв геноцида. Луизе Увамунгу и ее родственникам после прихода к власти Хабиариманы пришлось, как и Марии, перебраться в округ Бугесера на границе с Бурунди, однако они обустроились и чувствовали себя достаточно комфортно, пока весной 1994 года их соседями и остальными хуту не овладела лютая ненависть ко всем тутси. Через несколько дней после начала погромов экстремисты жестоко убили родителей и еще четверых членов семьи Луизы.
«Я отчетливо помню, как все происходило, — призналась женщина уже после геноцида. — Я видела, как мою сестру ударили топором. Она умерла мгновенно. Мы спрятались на болотах и через несколько недель смогли перебраться в Бурунди».
Виновных в убийстве президента Хабиариманы до сих пор не установили — по одной из версий, теракт организовали его соратники из правительства, недовольные тем, что глава государства слишком мягко обращается с тутси. Конфликты с партизанами из Руандийского патриотического фронта в начале 1990-х убедили наиболее радикально настроенных хуту, что они смогут чувствовать себя в безопасности, лишь полностью уничтожив другой народ.
Позже Международный трибунал рассчитывал доказать подготовку властей к геноциду, ссылаясь на огромные партии мачете, закупленные крупными промышленниками еще в 1993 году. Именно эти длинные ножи оказались самым «популярным» орудием убийства тутси — особенно среди сельского населения, которое не имело доступа к винтовкам и гранатам. Однако обосновать, что мачете импортировали именно для тотального истребления тутси, и опровергнуть слова подозреваемых, которые утверждали, что инструменты предназначались для сельскохозяйственных нужд, оказалось невозможно.
Тем не менее сам факт подготовки к геноциду почти не вызывает сомнений: отряды военных и экстремистские группировки оперативно вооружили, а убийцы разделили города на сектора так, чтобы тутси оказались отрезаны от хуту и не могли смешаться с другим народом. Служившее основным источником пропаганды «Радио тысячи холмов» продвигало идеологию ненависти задолго до геноцида. Когда начались беспорядки, ведущие называли тутси «тараканами» и призывали забивать их мачете, чтобы не тратить пули.
«То, что я видел на блокпостах, можно сравнить только с охотой, — вспоминал оказавшийся в Руанде весной 1994 года миссионер. — Люди охотились на своих собратьев. Я бы даже сказал, что это было хуже охоты. У животных по крайней мере есть возможность убежать. Но у тутси на той дороге не оставалось ни единого шанса. Хуту настаивали на том, чтобы люди в машинах показывали документы. Большинство не умело читать, они подзывали кого-то, чтобы им рассказали, что написано в удостоверениях личности».
Точно так же участники «Интерахамве» останавливали возвращавшихся с полей хуту и детей после школы. Если раскрывалось «неправильное» происхождение человека, обычно его убивали на месте. Тела расчленяли и выбрасывали вдоль дорог или хоронили в безымянных могилах, а преступники отправлялись домой к жертве и выносили оттуда все ценности. Тутси либо умирали, либо в панике бежали.
Как преступники уклонялись от ответственности
К началу июля отряды Руандийского народного фронта, к которым по мере продвижения в глубь страны присоединялось всё больше выживших, осадили столицу Кигали и другие крупные города, остававшиеся под контролем тутси. Спустя еще несколько недель инициировавшее геноцид правительство пало, а массовые убийства удалось остановить. Однако формальное восстановление мира не привело к восстановлению порядка: многие тутси инициировали ответное насилие и мстили хуту за причиненные страдания. Такая реакция позволила некоторым хуту снять с себя ответственность за геноцид и объявить, что в гибели сотен тысяч руандийцев виноваты обе стороны.
В разговоре с журналистом Филиппом Гуревичем исполнявший обязанности президента Руанды в период геноцида Теодор Синдикубвабо отказался возлагать на свое правительство и свой народ ответственность за массовое уничтожение тутси.
«Еще не наступил момент, чтобы решать, кто виновен, а кто нет, — сказал он. — РПФ (Руандийский патриотический фронт) могут обвинять кого угодно в чем угодно. Они могут формулировать свои обвинения разными способами — притягивать факты, монтировать свидетельские показания. Это превращается в комедию. Я родом из Бутаре, я знаю, что сказал жителям Бутаре, и они знают, что я сказал».
При этом раскрывать содержание своих приказов в интервью Синдикубвабо отказался. После вторжения отрядов тутси в Руанду он бежал в Заир и умер в марте 1998 года на территории Демократической Республики Конго. Разбиравший последствия геноцида психиатр Ричард Моллика констатировал, что «преступники превратились в жертв», а лидер РПФ Поль Кагаме, который в 2000 году стал президентом, отметил, насколько важно не позволить настоящим преступникам исказить память о произошедшем.
«Они устроили геноцид, а теперь рассказывают, как тутси убивают хуту, и подгоняют всё что угодно под определение геноцида, — пожаловался в 1994 году Кагаме, который бессменно занимает должность главы государства уже 22 года. — У нас есть проблемы, и ситуацию точно нельзя назвать идеальной. Но если мы будем воспринимать всё это одинаково, то совершим огромную ошибку».
Посещая заключенных за участие в геноциде хуту в тюрьмах, Гуревич убедился, что далеко не все они испытывают раскаяние: большинство настаивало на невиновности и критиковало новые власти за несправедливость. Даже фигуранты громких дел из руандийской элиты на допросах и на суде использовали разные риторические приемы, чтобы преуменьшить степень участия в геноциде, оправдать жестокость, показать, что всё не так однозначно и что тутси тоже небезгрешны. Такое отношение делало преодоление травмы и примирение между пострадавшими и преступниками практически невозможным.
«Геноцид считается самым ужасным обвинением, и преступники отлично это понимали, — рассуждает исследовательница Нисет Брем, которая с коллегами проанализировала более 10 тысяч страниц показаний 27 обвиняемых хуту. — Они пытались защитить свою репутацию. Вместо того чтобы признать свою роль, они подчеркивали, что на самом деле они хорошие люди, говорили о своих правильных поступках и подчеркивали положительные качества».
Часто убийцы-хуту утверждали, что сами подвергались гонениям на этнической почве, поэтому их тоже следует считать жертвами, а не преступниками. Исследователи установили, что больше трети обвиняемых использовали виктимизацию или апелляцию к хорошему характеру от одного до 12 раз в день на протяжении всего периода, пока давали показания. Один бывший майор объявил, что «боялся за свою жизнь и чувствовал постоянную угрозу». Нисет Брем считает, что, хоть некоторые хуту действительно страдали от конфликтов между двумя народами, их положение невозможно сравнивать с тем, что испытали тутси в период геноцида.
Лидеры тутси в ответ критиковали хуту за попытки «растворить» геноцид в десятках мелких локальных стычек, «размыть» представления о событиях 1994 года как о трагедии одного народа и преступлении другого. Когда границы между преступниками и жертвами стираются, геноцид превращается из уникального акта насилия в лишь один из сюжетов затяжного противостояния, переполненного обоюдными жестокостями.
«Представители Верховного комиссара ООН по правам человека уверяли, что 95% сбежавших хуту вернулись в свои деревни, не подвергнувшись ни аресту, ни физическому насилию, — заметил журналист Филипп Гуревич. — Однако пока я путешествовал по лагерям для переселенцев, функционировавшим по всей Руанде, сотни беженцев, с которыми я общался, говорили мне прямо противоположное. Они утверждали, что как минимум 95% вернувшихся убили или бросили в тюрьму. В войне всех против всех невозможно занимать четкую сторону, и организаторы геноцида, кажется, поняли, что так называемое международное сообщество больше всего любит ситуации, в которых может объявить о своем нейтралитете».
Еще одной особенностью геноцида в Руанде стало то, что у него не было одного или нескольких лидеров.
За организацию массовых убийств разыскивали военных, журналистов, бизнесменов, чиновников, таксистов, учителей, лавочников и фермеров. Следователям редко удавалось установить четкую иерархию: некоторые отдавали приказы, а другие их исполняли, но роли часто менялись в зависимости от ситуации, почти никак не согласовывались с социальным положением конкретных людей и не позволяли упорядочить убийц в зависимости от степени вины.
Однако спустя четверть века руандийцам удалось практически невозможное — несмотря на обрушившееся на страну потрясение, многие местные жители с помощью властей и активистов сформировали среду, в которой тутси смогли простить хуту, а у хуту появилась возможность хотя бы частично искупить вину перед тутси. Сейчас некоторые исследователи оценивают Руанду как идеальный пример сообщества, преодолевшего боль, травму и ненависть.

Как мучители примиряются с жертвами
Кроме Международного трибунала в Руанде расследованием геноцида занимались и традиционные местные суды — так называемые «гачача», предполагавшие личный контакт жертв и преступников, сопоставление их показаний и воспоминаний. Некоторые критиковали «гачача» за опасность для выживших: участники геноцида могли преследовать тех, кто открыто давал показания и обличал конкретных людей. Однако в долгосрочной перспективе именно такая форма правосудия помогла двум народам вырваться из порочного круга обвинений и оправданий.
Главная задача судов «гачача» заключалась не в том, чтобы досконально установить и задокументировать все факты. Их запустили, чтобы тутси могли поделиться историями о страданиях и потерях, а хуту — признаться в содеянном и принять ответственность за совершенные преступления. Власти надеялись, что гражданам Руанды удастся найти пути к примирению и заново научиться жить вместе.
«В геноциде не может быть ничего нормального, после него нам было не к чему возвращаться, — рассказала Режин Кинг, которая в 1994 году училась в университете и приехала домой на каникулы, когда начался геноцид. — У меня ушло какое-то время, чтобы понять, что страна ищет способ двигаться дальше. Именно необходимость двигаться дальше сформировала официальный нарратив, подразумевавший, что нам придется приложить некоторые усилия, если мы хотим снова ощутить какое-то единство. Это не вернуло бы нам то, что мы потеряли, и не помогло бы вернуться к прежней жизни, но позволило бы двинуться вперед».
Мощным толчком к национальному примирению послужило решение президента Поля Кагаме. В 2003 году он согласился амнистировать участников геноцида, если те сознаются в совершенных преступлениях. В том же году священник Деогратиас Гашагаза, который называет себя епископом Део, придумал революционный метод, который, по его задумке, позволил бы хуту и тутси существовать вместе, несмотря на разделившую их трагедию. Сам Део происходил из народа тутси и чудом не погиб в 1994 году, но всё равно считал, что даже мучители и убийцы заслуживают гуманного обращения.
В начале 2000-х Део решил, что единственная возможность нормально жить дальше для него лично и для всей страны — в том, чтобы простить преступников. Тогда он отправился в тюрьму и пообщался с участниками геноцида, среди которых оказались и убийцы его родственников. Ему хотелось изменить и свое отношение к этим людям, и самих этих людей, поскольку многие из них до сих пор ненавидели тутси и считали себя потерпевшими. С тех пор Део посещал тюрьму каждые две недели и общался с заключенными о преступлениях, Боге и о вере.
«Я смотрел на них как на людей, а не как на животных, — объяснил священник. — Они научились доверять мне».
Однако Део по-прежнему тревожило будущее убийц после их освобождения. Он беспокоился, что старые обиды снова приведут к разобщенности и насилию. Тогда пастор решил создать место, где два народа смогут взаимодействовать между собой и вместе преодолевать травму. Так появилась Мбио, примирительная деревня в регионе Бугесера, где жертвы и преступники живут, общаются, работают, прощают друг друга и даже дружат.
Когда Део только основал деревню на месте развалин, оставшихся после бурных конфликтов прошлого столетия, хуту и тутси не могли даже находиться в одном помещении — настолько сильными были чувства обиды, ненависти, недоверия и страха.
Заручившись поддержкой профессиональных психологов, священник попытался обеспечить одинаковую поддержку и тем, кто потерял родственников во время геноцида, и тем, кто совершал преступления, но испытывал чувство вины и лишился всех ориентиров в жизни.
Део понимал, что сложнее и важнее всего — нарушить завесу молчания и заставить новых соседей, которым предстояло вместе восстанавливать поселение, снова доверять друг другу.
«Без знания не может быть прощения», — объяснил он.
«Я была уверена, что тоже умру», — вспоминала одна из жительниц Мбио Жаклин, потерявшая весной 1994 года всю семью. Сама девушка выжила благодаря стечению обстоятельств — она ходила доить коров и вернулась уже после того, как убийцы с мачете перебили ее родных. Жаклин спряталась в церкви, где встретила дядю. Вместе они четыре дня подряд добирались до границы с Бурунди, пили из луж и питались семенами, которые находили в зарослях.
«К тому времени, когда мы пришли в Бурунди, мы уже потеряли человеческий облик», — призналась женщина.
Спустя 10 лет после геноцида она встретила одного из людей, убивших ее семью. Жаклин ожидала увидеть перед собой монстра — кровожадного хуту, ненавидевшего всех тутси. Но мужчина упал перед ней на колени лицом в землю и начал умолять о прощении. Жаклин приняла его раскаяние и с тех пор живет рядом с тем, кого раньше боялась и ненавидела. Иногда ее дети играют у него на участке, порой, когда ее коровы болеют, он делится с ней молоком и другими припасами.
«Жизнь должна продолжаться, — заключает Жаклин. — Примирение — это процесс».
За последние 15 лет в Руанде начали функционировать еще восемь поселений, в которых хуту и тутси учатся смотреть друг на друга не как на представителей враждующих народов, а как на жителей одной страны.
В деревнях примирения работают разговорные клубы, где жертвы геноцида под наблюдением психолога ищут пути к преодолению травмы вместе с преступниками, помилованными за раскаяние или отбывшими наказание. Известно, что с 2010 по 2014 год в программе приняло участие более 3000 человек.
Некоторые критики называют режим Кагаме «диктатурой примирения»: глава государства практически в ультимативной форме настаивает, чтобы тутси и хуту больше не обвиняли друг друга в старых трагедиях. Однако большинство жителей деревень вроде Мбио и обычных поселков, где жертвы и преступники спустя много лет снова оказались соседями, полностью разделяют идеи президента.
«Барометр примирения», составленный правительственной Комиссией по национальному единству и примирению в 2015 году показал, что население на 92,5% преодолело последствия травматичного прошлого. При составлении статистики эксперты общались с обычными жителями и учитывали десятки разных критериев.
Одна из жительниц деревни Жабиро, где экстремисты-хуту в апреле 1994 года убили или обратили в бегство всех тутси, рассказала, как по возвращении обнаружила разрушенную преступниками банановую плантацию. В период геноцида и последующих стычек у нее погибли два сына, зять, золовка и еще не менее 10 родственников. Несмотря на это, женщина уверяет, что прощение убийц далось ей легко, поскольку она видела, что те жаждут искупить вину от чистого сердца.
«Соседи-хуту кормили нас, — отметила она. — Они приносили нам бананы и сок. Люди, которые украли нашу мебель, возвращали ее и извинялись».
Жители деревень примирения вместе обрабатывают поля, ремонтируют дома и играют в футбол. Последнюю субботу каждого месяца руандийцы, независимо от происхождения, участвуют в Умуганде — национальном празднике, в рамках которого люди на три часа объединяются для совместного выполнения общественных работ. В каждом поселении граждане сами решают, чем заняться: они могут помочь с ремонтом соседу или выкопать дренажные ямы.
Однако участники программы национального примирения отмечают, что важнейшая часть процесса — постоянный диалог, который помогает разным сторонам лучше понять чувства других. Общаясь между собой, хуту и тутси убеждаются в том, что люди по-разному воспринимают одни и те же события, даже если соглашаются насчет установленных фактов. Когда жертвы и преступники прислушиваются к чужому опыту и эмоциям, им становится проще наладить контакт и осмыслить случившееся.
«Наша страна начала с предпосылки — что, если примирение между руандийцами возможно? — объясняет профессор философии в Университете Руанды Исаия Нзеймана. — Действия руандийцев, предположивших, что примирение возможно, изменили динамику отношений внутри нации. Примирение руандийцев — это образцовый пример, потому что им удалось закрыть одну главу своей истории и начать другую. У нас нет единой памяти, но у нас множество воспоминаний».

Принять позицию убийц
Раскаявшиеся преступники не пытались оправдаться перед жертвами, но объясняли свое поведение воздействием пропаганды и тем, что чувствовали себя обязанными выполнять приказы. Не снимая с хуту ответственности за случившееся, многие тутси пришли к выводу, что убийц тоже в определенном смысле можно считать жертвами организаторов геноцида, которые мотивировали их творить насилие в отношении соседей, мирных фермеров, женщин и детей, а затем оставили наедине с осознанием содеянного кошмара.
«Геноцид — это преступление против целого сообщества, — уверен исполнительный секретарь Комиссии по национальному единству и примирению Фидель Ндайисаба. — Он уничтожает достоинство не только жертв, но и преступников. Эти люди тоже нуждаются в исцелении».
В 2014 году южноафриканский фотограф Питер Хьюго пообщался с примирившимися жертвами и участниками геноцида. В рамках проекта «Портреты примирения» для New York Times он сфотографировал вместе нескольких преодолевших травматичное прошлое хуту и тутси и записал их истории.
«Я сжег ее дом, попытался убить ее и ее детей, но Бог защитил их, и они сбежали, — рассказал один из участников проекта Годфруа Мудахеранва. — Когда меня выпустили из тюрьмы, при виде нее я убегал и прятался. Потом нам начали предоставлять консультации. Я решил попросить у нее прощения. Я благодарен Богу за то, что сумел наладить хорошие отношения с человеком, которому причинил зло».
«Я ненавидела его, — вспоминала жертва Годфруа Эваста Муканьяндви. — Потом он пришел ко мне домой, опустился на колени и попросил прощения. Меня тронула его искренность. Теперь, если я прошу о помощи, он всегда приходит. Если мне что-то нужно, я звоню ему».
Филберт Нтезиризаза, который участвовал в убийстве мужа и детей Марии Изагиризы, после выходы из тюрьмы в начале 2000-х тоже связался с бывшей жертвой через примирительные деревни и извинился за содеянное.
«В 1994 году я был подростком, — объяснил Филберт. — Мое тело переполняла юношеская энергия, а мой разум — ужасная идеология, которую нам скармливали с начальной школы. Наше мировоззрение в то время было более смертельным, чем мачете, которые мы носили. Участники организации Prison Fellowship Rwanda помогли нам понять, насколько ужасных убеждений мы придерживались и насколько важно теперь откровенно сознаться перед теми, кому мы навредили».
Филберт, превозмогая панику, рассказал Марии, как он и еще несколько хуту зарубили ее мужа и старшего сына ножами, а двух других детей сбросили живыми в глубокую яму, откуда те уже не выбрались.
Чтобы хоть немного искупить вину, мужчина начал работать на ферме у Марии и выполнять обязанности, которые выполняли бы ее супруг или дети, если бы остались в живых. Изагириза приняла извинения Филберта — примирение с ним помогло ей самой преодолеть тревогу и депрессию, от которой она страдала после побега в Бурунди. За несколько лет они сблизились настолько, что Мария попросила Филберта стать крестным отцом своей дочери, а затем пригласила его в качестве свидетеля на ее свадьбу.
Главная идея программы примирения, которую поддерживают правозащитные организации и правительство Руанды, в том, что оно помогает и преступникам и жертвам. Одни получают возможность интегрироваться в общество и мотивацию стать лучше, чем раньше. Другие смиряются с утратой и понимают, что прощение — самая надежная гарантия того, что насилие не повторится и новые поколения не пострадают от идеологической и этнической ненависти.
«Правительство сказало нам, что мы должны преследовать и уничтожать тутси, — вспоминал Матиас Сендегейя, который в 1994 году убил шесть родственников Жаклин Мукаманы, а теперь живет и работает вместе с ней в деревне Мбио. — Они сказали, что тутси — наши враги, выдали нам винтовки и мачете. Сначала это был просто приказ, но со временем мы начали извлекать из убийств личную выгоду».
Прощение Матиаса не далось Мукамане легко, но она согласилась, что ради будущего Руанды очевидцам геноцида важно забыть о разделении на хуту и тутси, независимо от того, кто был преступником, а кто — жертвой.
«В танцклубе, куда ходят все молодые люди в Мбио, каждый из нас руандиец, — объяснила она. — Мы — одно сообщество, где все помогают друг другу. Я всё еще каждый день скучаю по членам своей семьи, но они больше никогда не вернутся. Теперь мои соседи — это моя семья».
Того же мнения придерживается Луиза Увамунгу, подружившаяся с отсидевшим 15 лет соучастником убийства ее родственников Ситриеном Матабаро:
«Мы примирились, теперь он навещает мою семью, а я хожу к нему в гости. Наши дети понимают, что произошло, хотя раньше такое показалось бы невозможным».
«Он сделал это не сам, им овладел дьявол»
Почти все тутси, простившие преступников, оправдывали обычных хуту тем, что те сами пострадали от правительственной пропаганды.
Возможный недостаток такого подхода к национальному примирению заключается в том, что он практически не затрагивает тему индивидуальной ответственности.
Мародеры, насильники и убийцы в такой интерпретации выступают лишь марионетками коварных элит — как если бы они не обладали способностью к самостоятельному мышлению и свободой воли.
«Потребовалось какое-то время, но в конце концов мы осознали, что все мы — руандийцы, — говорит Сезария Мукабутера, простившая одного из убийц своих детей. — Геноцид произошел в результате плохого руководства, настроившего соседей, братьев и сестер друг против друга. Теперь пришло время принять и простить. Человек, которого ты прощаешь, становится хорошим соседом. Это умиротворяет и вселяет надежду на будущее».
Сами хуту тоже объясняют преступления в период геноцида провокациями пропагандистов, хотя аналогичные оправдания со стороны участников массовых убийств и погромов на этнической и расовой почве в других странах редко считаются искренними. Исследователи холокоста и юристы, занимавшиеся делами нацистов, обычно скептически относились к показаниям обвиняемых, которые перекладывали вину за уничтожение миллионов гражданских на Гитлера и его ближний круг, а себя называли простыми исполнителями.
В случае с геноцидом в Руанде подобная позиция воспринимается по-другому по двум причинам.
Во-первых, обычные хуту, убивавшие тутси, зачастую вообще не были встроены в государственный аппарат, в отличие от сотрудников СС и гестапо, профессионально участвовавших в институциональной и бюрократической деятельности Третьего рейха.
Во-вторых, участвующим в программе примирения тутси на уровне мировоззренческих диспозиций оказалось проще принять, что их соседи поддались внешнему влиянию и потеряли контроль над собой, чем пережившим холокост евреям.

Часто руандийцы интерпретировали жестокость соотечественников как сиюминутное помешательство, наступившее чуть ли не под влиянием потусторонних сил. Выжившие узники концлагерей и европейские судьи, конечно, вряд ли приняли бы такое обоснование и скорее сочли его суеверием, но для тутси именно оно сделало возможным прощение и примирение.
«Он убил моего ребенка, а потом пришел ко мне и извинился, — рассказала Эпифания Мукамусони. — Я сразу простила его, потому что он сделал это не сам — им овладел дьявол. Я была довольна, что он рассказал о преступлении, вместо того чтобы скрывать его, потому что когда кто-то скрывает преступление, совершенное против тебя, он делает тебе еще больнее. Раньше я не могла находиться рядом с ним и относилась к нему как к врагу. Теперь я скорее считаю его своим ребенком».
С одной стороны, процесс национального примирения в Руанде можно рассматривать как правительственный проект, организованный властями исключительно с прагматическими целями и принятый гражданами из-за практической необходимости: чтобы государство могло нормально функционировать и не увязло в очередной гражданской войне. В пользу такой трактовки свидетельствуют и наблюдения фотографа Питер Хьюго, автора проекта «Портреты примирения»:
«Этим людям некуда идти, поэтому им приходится мириться друг с другом. Прощение рождается не из воздушного чувства доброжелательности. Это скорее инстинкт самосохранения».
С другой стороны, даже если примирение происходит не само по себе, а вследствие насущной необходимости, многие тутси всё равно совершенно искренне изменили отношение к хуту и восприняли совместное сосуществование как благо, а не как навязанную сверху оскорбительную формальность.
Для таких людей прощение убийц и мучителей — не только символический жест, но и способ напомнить себе, что жизнь продолжается, а мир лучше войны. Им всё равно, насколько примирение мотивировано интересами правящей верхушки: для них оно проявляется в возможности снова ощутить национальное единство и почувствовать, что сходства сильнее различий.
Конечно, далеко не все жертвы геноцида относятся к преступникам миролюбиво и понимающе.
«Если бы я сказал, что простил тех, кто убил моих родственников, я бы солгал, — сказал один из жителей Кигали. — Я думаю, это длинное путешествие. Сейчас я живу своей жизнью и не вижу никаких причин, по которым этих людей следовало бы простить».
Похожим образом на вопрос о прощении ответила в 2006 году женщина по имени Франсин:
«Иногда я сижу одна в кресле у себя на веранде и представляю, как один из местных медленно поднимается ко мне и говорит: „Привет, Франсин. Я пришел поговорить с тобой. Я один из тех, кто порезал твою маму и твоих маленьких сестер. Я хочу попросить у тебя прощения“. Я не смогла бы ответить такому человеку ничего хорошего. Человек может попросить прощения, если напился и ударил жену. Но если он целый месяц убивал людей, не отдыхая даже по воскресеньям, то как он может надеяться на прощение?»
Датский исследователь Томас Брудхольм считает, что в обществе несправедливо стигматизируются жертвы геноцида, репрессий и военных преступлений, которые отказываются прощать и двигаться дальше.
Про таких выживших говорят, что они позволили злости и обиде поглотить себя, зациклились на прошлом вместо будущего. По мнению Брудхольма, неправильно требовать от пострадавших в результате подобных беспрецедентных преступлений, чтобы они простили мучителей точно так же, как если бы те нанесли им оскорбление или причинили бытовые неудобства.
В качестве примера исследователь приводит реакцию известного борца против апартеида Десмонда Туту. Тот восхитился милосердием тутси, простивших преступников-хуту, а про тех, кто не захотел преодолевать травму и примиряться с прошлым, сказал так:
«Они показали нам важную вещь — что прощение нельзя воспринимать как должное. Что его нельзя добиться дешево или легко».
Подобная интерпретация предполагает, что отказ прощать убийц важен лишь потому, что подчеркивает милосердие других пострадавших. Тех, кто принял извинения участников геноцида, согласился жить рядом с ними и даже общаться.
Брудхольм заключает, что прощение не должно быть навязанным, а жертв не следует лишать права выстраивать свою идентичность на основе пережитой травмы. Нельзя критиковать их за то, что они зацикливаются на прошлом, или требовать, чтобы они двигались дальше.
В определенном смысле они проявляют не меньший, если не больший героизм, чем те, кто примирился с мучителями, потому что отказываются отпускать трагедию, по-прежнему живут с нею, даже если понимают, что забвение принесло бы облегчение.
Прошедший через нацистские концлагеря философ Жан Амери отмечал, что депортации, избиения, пытки и физические унижения не ограничены во времени и пространстве: тот, кто однажды столкнулся с ними, навсегда остается подвержен их эффекту.
«Кто подвергался пытке, уже не способен чувствовать себя в мире как дома. Стыд уничтожения неистребим. Поруганного доверия к миру, которое отчасти утрачивается с первым же ударом и окончательно — в пытке, не восстановить. Сознание, что ближний обернулся врагом, застывает в жертве сгустком ужаса: после этого невозможно смотреть на мир как на царство надежды».
Пусть для остальных людей будущее важнее прошлого, считает Амери, но за жертвами геноцида необходимо сохранить право не прощать. Право жить кошмаром, забыть который невозможно, и нести на себе отпечаток травмы, а не пытаться ее преодолеть.
Какие бы усилия ни прилагали власти или энтузиасты вроде пастора Део, национальное примирение, коллективное и индивидуальное осмысление трагедии, унесшей сотни тысяч жизней, даже спустя несколько десятилетий не может считаться универсальным, простым и однозначным процессом.