Всё, что не разум: какую роль играл авторитет в философии Средневековья и Античности
Для многих философия Средних веков — не вполне философия, поскольку хотя она и выработала крайне сложный логический аппарат и систему аргументации, но всё же в основе ее лежит авторитет Откровения, а не рациональные доводы. В этом плане ей принято противопоставлять не только нововременную, но и античную философию, но справедливо ли это? Ольга Алиева, филолог-классик, доцент НИУ ВШЭ — о том, какую роль играл авторитет в философии Древней Греции задолго до появления христианства.
Для нас философия — это прежде всего свободный, незаинтересованный поиск истины, поэтому появление авторитета воспринимается как угроза философии. В словосочетании «средневековая философия» несложно услышать не только хронологическую, но и оценочную характеристику, ведь именно в Средние века, как почти единодушно сообщают нам учебники, философия ставит себя на службу Писанию и христианской догматике. Покоряется авторитету.
Получается, что «средневековая философия» — это почти как «растительный белок».
Он, конечно, белок (ничем не хуже животного), но почему-то многие без радости обнаруживают следы его присутствия в колбасе.

Такой выдающийся специалист по средневековой философии, как Этьен Жильсон, приложил немалые усилия, чтобы защитить христианскую философию именно как философию (я понимаю, что применительно к Средним векам можно говорить не только о христианстве, но в рамках этой заметки вынуждена соблюдать краткость). В своих Гиффордовских лекциях он полемизирует с двумя группами ученых. Одна — «рационалисты». В радикальной формулировке их позиция предполагает:
«Между религией и философией пролегает сущностное различие, в силу которого никакое сотрудничество между ними невозможно… [Религия] не принадлежит к порядку разума, а разум, в свою очередь, не может относиться к порядку религии. Но порядок разума — это и есть порядок философии. Следовательно, философия по самой своей сути независима от всего, что не есть разум, и особенно от того иррационального, которое именуется Откровением…»
В качестве варианта этой позиции он представляет мнение неосхоластов, которые, разделяя подобную методологию, всё же расходятся в оценке фактов: по их мнению, единственной христианской философией можно признать философию Фомы, но именно в силу того, что выстроена она «чисто рационально».
Разумеется, при таком подходе говорить о «христианской философии» затруднительно, так как собственно христианское — Откровение — остается за пределами философии.
Получается, что при рационалистическом подходе в христианской философии не больше христианского, чем, скажем, в христианской медицине: ведь у медицины свой метод, которого будет придерживаться врач любой конфессиональной принадлежности (если он не шарлатан, конечно).
Другой лагерь, с которым спорит Жильсон, — это протестантские историки, которые, начиная как минимум с Адольфа фон Гарнака, отрицали «умозрительный» характер раннего христианства. Фактически, признавая философские корни раннехристианского богословия, эта линия историографии рассматривает их как чуждый, «эллинистический» элемент. В этом смысле говорить о «христианской философии» тоже не приходится: с точки зрения Гарнака, философские построение гностиков — это «резкая» эллинизация, а христианское богословие встает на тот же путь, но более постепенно.
Жильсон адресует этим историкам справедливую критику:
«Где бы мы могли обнаружить такое христианство, чуждое всякому умозрению? Чтобы отыскать его, пришлось бы обратиться ко временам более ранним, нежели время св. Иустина, изъять из раннехристианской литературы многие страницы Апостольских мужей, выкинуть первое послание Иоанна, а вместе с ним всю средневековую спекулятивную мистику, <…> отбросить проповедь св. Павла о благодати, из которой в значительной мере рождается августинизм, и отодвинуть в сторону евангелие от Иоанна с его Прологом, где содержится учение о Слове».
Жильсон прав, когда противится попыткам «рационализировать» христианскую философию в духе томизма или же, напротив, лишить христианство всякой умозрительности. Вслед за Ансельмом он определяет философию как «уразумение Откровения». Однако дальше вопрос о существовании христианской философии и правомерности самого термина сводится к решению вопроса о том, в какой мере Писание «оказало влияние» на эволюцию философии:
«Законно спросить себя, не питалась ли классическая метафизика от христианского Откровения в гораздо большей степени, чем это признают. <…> Если некоторые философские идеи были привнесены в чистую философию христианским Откровением, если кое-что из содержания Библии и Евангелия перешло в метафизику, если, одним словом, невозможно представить, что системы Декарта, Мальбранша или Лейбница смогли бы сложиться в том виде, в каком они существуют, без влияния христианской религии, — то в высшей степени вероятно, что понятие христианской философии имеет смысл, ибо влияние христианства на философию есть реальность».
Таким образом, вопрос о «христианской философии» сводится к тому, как Откровение повлияло на философию, по сути — к вопросу о философской новизне. А как быть с тем, что не было новым? Считать ли это элементами языческой философии внутри христианской? Мы снова оказываемся в тупике.
Как бы то ни было, Этьен Жильсон достаточно убедительно показывает, как ненадежны все наши попытки провести «верхнюю границу» средневековой философии там, где кончаются открытые отсылки к Писанию, ведь такие философы Нового времени, как Лейбниц или Декарт, немыслимы вне христианства. Однако он не снимает с повестки другой важный вопрос, вопрос о «нижней границе», когда авторитет Писания — и авторитет вообще — появляется в поле зрения философов.
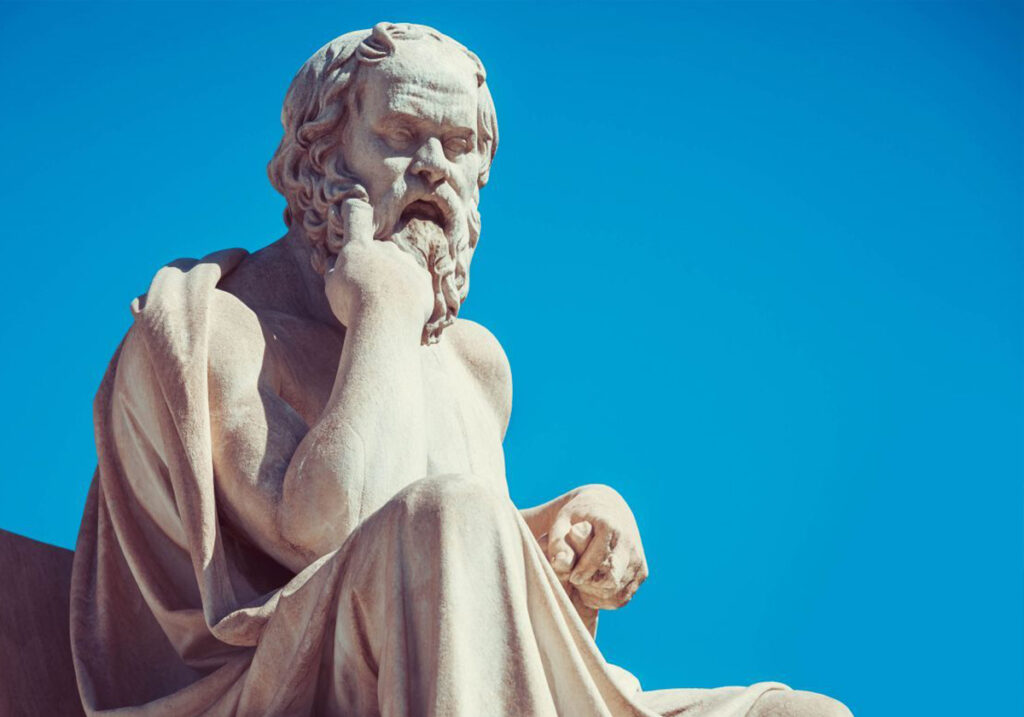
Традиционно принято указывать в этой связи на иудея-платоника Филона Александрийского (кон. I в. до н. э. — нач. I в. н. э.), который применил философский инструментарий для толкования Торы. Тем самым он проложил путь и позднейшим христианским авторам, благодаря которым его труды, в общем-то, и сохранились.
Получается довольно гладкая картина: истина оставалась предметом свободного поиска, пока не пришли иудеи и христиане.
Они, конечно, были философами в том смысле, что получили философское образование. Однако это образование они поставили на службу принципиально новым целям, применив его для толкования Священного Писания. И хотя сами христиане (начиная с Иустина Мученика) никогда не противопоставляли «христианство» и «(подлинную) философию», историк философии не может доверчиво полагаться на их собственное словоупотребление. Мы-то знаем, что философия зародилась в Греции, что она возросла на почве полисной свободы, что она — дитя того благословенного периода, когда религия сводилась к культу и не регламентировала образ мыслей и образ жизни человека.
Таково распространенное представление, к которому есть ряд вопросов. Если античная религия не регламентировала образ мыслей и образ жизни, то кто же был этим занят?
Социальный институт, в котором последовательно, из века в век, разрабатывались техники управления душой и телом? — это философская школа.
Мы писали об этом на примере стоиков. Можно возразить: да, философы, подобно нашим проповедникам, указывали человеку путь к благу, но это благо они познавали на пути незаинтересованного поиска, не нуждаясь для этого в священных или авторитетных текстах. Но и это не так.
Механизмы производства и поддержания (неполитического) авторитета — тоже во многом изобретение философов, причем курс на авторитет философские школы взяли еще до рождения Христа и вне всякой связи с иудеями. Здесь можно было бы привести множество примеров того, как и в классический, и в эллинистический период именно философы (в том числе стоики) занимались толкованием «священных текстов» вроде Гомера или Орфея. Впрочем, такая практика в указанный период не была главным занятием философов, но ближе к концу периода Республики (I в. до н. э.) происходят достаточно значимые изменения, спровоцированные в первую очередь трансформацией самого института философской школы.
Тут надо сделать небольшое отступление.
Принято считать, что философские школы закончили свою жизнь в 529 г., когда декретом Юстиниана была закрыта последняя языческая философская школа в Афинах.
Эта дата обладает особым очарованием, потому что примерно тогда же открывается первый бенедиктинский монастырь в Монтекассино. Но есть и менее приметная, но оттого не менее значимая цифра.
В 86 году до н. э., в ходе Первой Митридатовой войны, Афины, вставшие на сторону понтийского царя Митридата, были взяты римским полководцем Суллой. Чтобы компенсировать потери в осадной технике, римский полководец, как сообщает Плутарх («Сулла», 12), «опустошил Академию, самый богатый деревьями пригород, и Ликей». Это разрушение, а также послевоенный упадок в экономике, привели к тому, что мы назвали бы утечкой мозгов. В городе перестали действовать важнейшие философские школы. Философы, которые связывали себя с одной из упомянутых школ, больше не были привязаны к конкретному городу. Школьное преемство нарушилось.
Последователи этих школ рассеялись по разным регионам востока и запада. В то же время они пытались сохранить верность отцам-основателям, опираясь на их тексты. Сохранение, воспроизведение и комментирование текстов основателей школы становится для этих поколений философов главной задачей, вокруг которой начинает выстраиваться вся школьная жизнь.
В условиях фактической децентрализации текст оказывается основой для построения групповой идентичности: автор становится авторитетом.
Таким образом, следует признать, что и привычная для нас «нижняя граница» средневековой философии, которую мы зачастую определяем через опору на авторитет (в данном случае авторитет Писания), достаточно сомнительна. Так, платоник Кельс во II в. (известный противник христиан, с которым позже спорил Ориген) говорит об «исконном древнем учении, которым занимались мудрейшие народы и государства и мудрые люди — египтяне, ассирийцы, индусы, персы, одризы, самофракийцы, элевсинцы и гипербореи…» Сюда же он прибавляет Гомера, Пифагора, Орфея, Зороастра и некоторых других — все эти люди владели «тайной мудростью», которую от них, по мнению Кельса, и позаимствовал Моисей (Ориген, «Против Кельса» I, 14).
Признавая мудрецами даже галактофагов Гомера, галльских друидов и гетов, Кельс отказывает в мудрости только иудеям и христианам.
Одним словом, готовность искать в авторитетных текстах мудрость древних не отличала христианских авторов от их языческих коллег — скорее сближала с ними. Вопрос был лишь в том, что считать авторитетом. Но это предмет для отдельного разговора.
