Богатыри — не вы: почему у современной российской прозы мало читателей
Стоит начать обсуждение актуальной русскоязычной прозы, как выясняется, что многие знают максимум двух-трех авторов или называют незнакомые друг для друга фамилии. Почему современная литература едва знакома широкому читателю? Разве это нормально? Разбирается писатель и литобозреватель Денис Лукьянов.
Всякий раз, как выходит новый роман Виктора Пелевина, поднимается такой инфошум, что, казалось бы, каждый второй должен знать если не о новинке, то хотя бы о самом Пелевине — необязательно читать, просто слышать. К выходу книги «Путешествие в Элевсин» реклама появлялась даже в «Яндекс. Такси»! А потом задаешь вопросы знакомым, родственникам, друзьям и понимаешь, что... многие вообще не в курсе происходящего. И о Пелевине ничего не знают. Порой даже и не слышали о нем. И если с настолько раскрученным российским автором все так туго, то уж с молодыми и талантливыми, должно быть, совсем беда.
Вот и выходит, что современная российская проза оказалась несколько в тени. Откуда эта тень падает и стоит ли вообще за нее заглядывать?
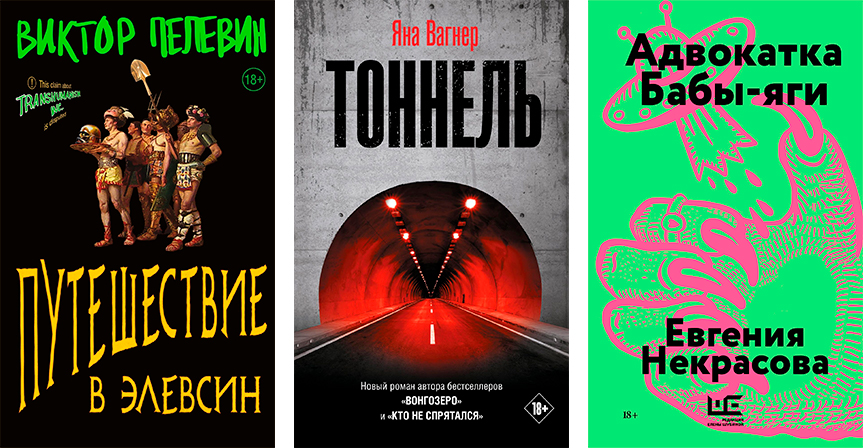
В тени гигантов
Пелевинский пример, с которого мы начали, показателен. Однако если сравнить осведомленность массового читателя о Викторе Пелевине и, допустим, о Евгении Водолазкине, то фамилию первого наверняка узнают больше людей. Заменить Водолазкина на Евгению Некрасову или, например, на Алексея Сальникова — получится примерно тот же эффект. И вот мы опять оказываемся у огромной-огромной застилающей все тени. Только теперь можем разглядеть, что ее отбрасывает.
Ее отбрасывают звезды конца девяностых и начала двухтысячных.
В середине XX века в мире случился беби-бум, а в начале XXI века в России случился авторобум: тогда появились новички, а ныне самые известные писатели, затмевающие современную актуальную прозу для массового читателя. За 20 лет они успели как следует раскрутиться, а у молодых авторов на это пока просто не хватило времени. Что же произошло? Можно сказать, что повлиял случай, но это будет только часть правды.
В конце тысячелетия в России кардинально менялась система печати: это касалось и средств массовой информации, и, само собой, издательств. Бизнес был недорогим и рентабельным, а после наступления гласности и официальной отмены цензуры в 1990 году можно было напечатать что угодно. На телевидении — новые экспериментальные форматы типа «Взгляда» или «МузОбоза», в газетах и журналах — множество тематических изданий обо всем на свете, а в книгах — и наплыв переводного зарубежного фэнтези в кринжовых обложках, и эзотерическая литература, и архивные книги садовода на каждый год, наверняка до сих пор лежащие у кого-то на даче, и попытка открыть новые имена. Эксперименты. Вполне удачные.
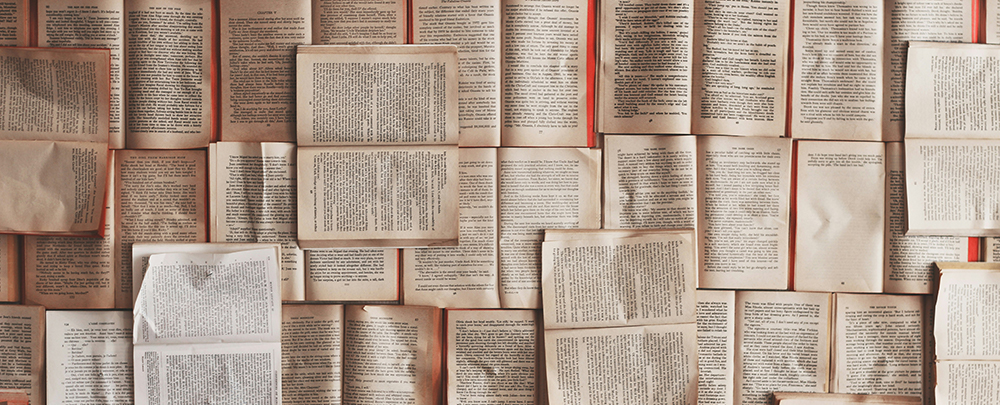
Почти все гиганты, в тени которых сейчас развивается более молодая проза, как раз попали в эту авантюрную беготню начала века. Притом под молодостью стоит понимать не столько возраст авторов, сколько год публикации: все, что выходит, условно, в 2010–2015-м, можно назвать молодым. Пелевин, Сорокин, Улицкая (признана иноагентом), Петрушевская, Донцова, Маринина и Устинова — все эти звезды девяностых-нулевых за долгие годы издания успевают разрастись до таких размеров, что массовый читатель порой не замечает за ними Алексея Сальникова или, допустим, Алексея Варламова, авторов тоже состоявшихся и читаемых. Да еще в случае Сальникова и с экранизацией (речь о «Петровых в гриппе»). Что уж говорить о тех, чей литературный путь начался в последнее десятилетие.
Это, безусловно, не единственная причина читательской неосведомленности в новых именах. Книг сейчас выходит слишком много, и в общем потоке невозможно уследить за всем. Прибавьте к этому общий информационный шум от диджитал-контента и новостей — становится еще тяжелее. Потому вокруг каждого жанра (или, шире, направления) литературы образуется своего рода комьюнити — узкий круг читателей, хорошо разбирающихся именно в этом сегменте, но не слишком хорошо во всех остальных. Исходя из этих реалий, начинают действовать и издатели. Несколько лет назад случился очередной бум, уже третий за этот материал, — бум импринтов. Открылись маленькие подразделения уже существующих издательств, которые выпускают романы определенной тематики или жанра («O2», «Полынь», «Альпина. Проза», «Черным-бело»).
Вот что о сужении аудитории в эксклюзивном комментарии для «Ножа» говорит Татьяна Соловьева, главный редактор издательства «Альпина. Проза», литературный критик и заместитель главного редактора журнала «Юность»:
«Я думаю, это не только литературы касается. В любой медийной сфере есть люди, которые уже как-то себя заявили, но массовый читатель/зритель/слушатель про них пока не знает. Начинающие режиссеры, музыканты, обозреватели и журналисты, например, тоже долгое время (а порой всегда) известны ограниченному кругу ценителей. Современная проза — это лишь одна из доступных сегодня форм досуга, новых авторов действительно много, и потому даже читающие люди часто не могут уследить и сориентироваться, отдавая предпочтение классике. Поэтому главными навигаторами в актуальном литературном процессе я бы назвала книжные ярмарки и фестивали — на них выступают многие писатели, работающие в разных жанрах, можно послушать их и потом купить заинтересовавшую книгу. Ну и книжные критики, конечно, здесь в помощь, а еще списки литературных премий.
И все же ждать, что многие писатели станут всенародными звездами, на мой взгляд, несколько наивно. Чтение — процесс, требующий времени и определенного регулярного умственного усилия, это не видеоблогеры, которые могут просто примелькаться в ленте, тут более сложный процесс узнавания и запоминания».
Так что же, пора скинуть этих гигантов с парохода истории? Надо ли сделать актуальную прозу, как о ней говорят, снова великой?
Скидывать никого не надо. В камерности есть свои плюсы.

От комьюнити к фэндому
Почти у любого раскрученного фэнтези-автора есть свой фэндом — сообщество фанатов, которое максимально плотно взаимодействует с книгой: посещает встречи с автором, строит теории, пишет фанфики, делает косплеи — иными словами, живет вместе с книгой (возьмите хоть современную звезду Брендона Сандерсона, хоть профессора Толкина). А любой фэндом рождается из некоего комьюнити, ведь массовые читатели обычно слишком разнородны, чтобы так сплотиться вокруг чего-то одного.
Вокруг современной актуальной прозы в России комьюнити читателей уже сформировано. И постепенно оно становится фэндомом. Само собой, из-за специфики текстов (зачастую это либо триллеры, либо социально-психологическая проза, либо мистика с магическим реализмом) фэндомы эти не так, как говорится, отсвечивают. Людей в костюмах эльфов заметить намного проще. Но преданные читатели все столь же плотно вовлечены в процесс: они посещают авторские встречи, устраивают книжные клубы, приходят на ярмарки за конкретными книгами, читают опубликованные в модных изданиях подборки, живут жизнь, уж простите за каламбур, вместе с современной прозой. И пусть их не так много, пусть они не та армия, против которой на доску ставится Халк, — они читатели заинтересованные и помогают прозе быть читаемой, продаваемой, но в то же время оставаться несколько нишевой.
А это, в свою очередь, помогает авторам писать более сложные, экспериментальные и нетипичные тексты, уютно чувствуя себя в тени старых гигантов. Вот что Надя Алексеева, автор «Полунощницы» и «Белграда» и финалистка престижных премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», в разговоре с «Ножом» сказала о своей аудитории:
«Мои читатели — старше 40, соотношение мужчин и женщин примерно 30 : 70. „Полунощницу“ мужчины читают больше: тема Валаама, суровые герои, документальная основа. У „Белграда“ женское лицо, хотя вставную новеллу про Чехова любят внегендерно. „Белград“ дарят мамам. Как-то узнала, что янг эдалт выходит миллионными тиражами, а для актуальной молодой прозы 10 тыс. — успех. Я позавидовала, но одумалась. Мне важно быть открытой читателям: мне пишут в личку, присылают фото даже из Буэнос-Айреса, куда в книжные добрались мои романы».

Диалог современников
Порой можно услышать разговоры в духе: «Да зачем читать современную прозу, когда есть проверенная временем классика, а это так — сиюминутное баловство, а то и вовсе одна повесточка». Аргументы резонные. Стоит вспомнить, что вся классика в свое время тоже была прозой что ни на есть современной — и многие аспекты тех же «Мертвых душ» сейчас без комментария не понять. А тогда понимали. Потому что «социалка».
Есть еще один: «Так, может, эта современная проза просто слишком сложная?! Что ее читать?!» Давайте сперва разберемся с последним: нет, она бывает разная. Посложнее и попроще. Более и менее игровая. Написанная попроще или позубодробительнее. Как и любая другая проза — от фэнтези до фантастики.
Так зачем читать? Во-первых, это ужасно интересно: есть романы более сюжетные («Часть Картины» Аси Володиной), а есть более философски-нерасторопные («Под синим солнцем» Ромы Декабрева); есть романы-катастрофы («Тоннель» Яны Вагнер), есть крепкая фантастика («Бояться поздно» Шамиля Идиатулина), есть авантюрная проза («Парадокс Тесея» Анны Баснер), есть исторические романы («Письма к Безымянной» Екатерины Звонцовой), есть хорроры («Пятно» Анны Пестеревой), есть фолк («Адвокатка Бабы-яги» Евгении Некрасовой).
Во-вторых и, пожалуй, в главных, современная проза почти всегда помогает разобраться в себе и окружающем мире. Ведь каждая книга — это химическая реакция на события своего времени. И совсем неважно, о чем размышляет автор: о перипетиях геополитики, о роли школьного учителя в провинции XXI века или о духовности в мире TikTok. Это разговор современника с современником, автора с читателем.
Ну а тут уж стоит вспомнить Сократа. Речь не идет ни о какой истине, ее мы искать и не планировали, как, впрочем, не планировал и Сократ. Суть в другом: диалог всегда обогащает. И помогает увидеть солнечный свет там, где до того была тьма пещеры.
