Карнавал кончился. Политическая сатира в мировом кинематографе
Зачастую большая политика не несет обывателю ничего, кроме вреда и обмана. Ярче всего это показывает кинематограф через призму политической сатиры, которая сегодня всё прочнее занимает место самого реалистичного из жанров. «Нож» публикует продолжение статьи кинокритика Анастасии Алешковской о знаковых образцах политической киносатиры и ее взаимосвязях с карнавальной культурой, о которой писал философ Михаил Бахтин.
«Когда наступают трудные времена, люди хотят банальных развлечений.
Я понимаю, почему в 1944 году стали выпускать комедии.
Насколько же трудными должны быть времена сейчас,
раз людей бомбардируют такой чепухой».
«Он снова здесь»
Важное достоинство чепухи — отвлечение внимания. Это работает как во вред, так и во благо общества. Что касается вреда, его точно подмечает политическая киносатира. Подобно средневековому карнавалу, она отражает жизнь в игровой форме, пародируя всё, что принято считать нужным и правильным.
«В петле» (Армандо Ианнуччи, 2009) строится на тотальной путанице — лучшем удобрении политической почвы. Британский министр международного развития говорит в интервью, что «война непредсказуема». Это запускает необратимую чехарду взаимных угроз, что выливается в начало реального военного конфликта на чужой территории. Пытаясь разобраться в формулировках, которые, как доказано, решают судьбы миллионов, пресс-атташе премьер-министра орет, что война «либо предсказуема, либо непредсказуема». Министр международного развития вторит ему: «Она неминуема, но и не неминуема». Попытки разрешить проблему лишь туже затягивают вполне реальную петлю на шее мира:
— Так война непредсказуема, министр?
— Для самолета в тумане горы непредсказуемы. Но потом они вдруг становятся реальными и неизбежными. И вполне опасными.
— А кто эти самолет и гора? Хотите сказать, что правительство в тумане?
— Я просто говорил: чтобы пройти по дороге к миру, надо подняться на гору конфликта.

Такими же присказками говорит коммунист Вираг в «Свидетеле» (Петер Бачо, 1969): «Жизнь — не торт со сливками», «Не будем дискутировать», «У лошади четыре ноги и тем не менее она спотыкается». Эти фразы призваны придать человечность его бесчеловечным поступкам (внутрипартийным предательствам и ложным обвинениям друзей) и подкрепить их логикой, которая, следуя закону жанра, отсутствует. За долгое время общения с Вирагом главный герой, попавший под его влияние, «неграмотный коммунист» Йожеф Пеликан, неизбежно подхватывает эти реплики и тоже начинает повторять их, часто не к месту, походя на безумца.
Будто сошедшие в бытовую речь с грубо написанных лозунгов, патетические фразы без соответствующего контекста могут быть прочитаны двояко. Ими зачастую сражаются, жаля друг друга и борясь за внимание избирателей на дебатах (потомках карнавальных диспутов — словесных боев между масками).
Поэтому так был востребован Чонси Гардинер в «Будучи там», который идеально вписывался в риторику лицемерных и до крайности вежливых политиков. Его импровизационные философские высказывания, лаконичные и неоднозначные, не требовали абсолютно никакой редактуры.
«В петле» походит на продолжение «Будучи там». В состоянии непрекращающегося стресса и комичных, но судьбоносных проколов помощник кричит министру: «Вы говорите притчами, как плохая копия Иисуса!». «Будучи там» тоже изобилует не только притчами, но и отсылками к Библии: Чанса выгоняют из сада; влюбившуюся в него даму зовут Ева; присутствие героя дарит радость ее умирающему мужу, который тоже искренне полюбил Чанса; а в финальных кадрах будущий президент и вовсе ступает по воде. Притчи Христа назидательны, в то время как притчи политиков действуют почти гипнотически и нередко — на них самих.

— Что это такое?
— Я думаю, я думаю, я думаю, что я не знаю, что это значит.
«В петле»
В «Кандидате» репортер говорит, что «кандидаты продают себя, как дезодорант, — используя слоганы, не несущие никакого смысла, тем самым унижая себя и своих избирателей». «Плутовство» (Барри Левинсон, 1997) открывается слоганом:
«Никогда не меняй коней на переправе. Переизбери президента». Ролик предвыборной кампании президента наследует старой американской традиции: «Зачем менять коней на переправе?» — слоган Линкольна во время Гражданской войны и Франклина — во время Второй мировой. Как цинично отмечается в фильме:
«Мы помним слоганы, а не войны. Это шоу-бизнес. Обнаженная девчонка, обожженная напалмом, V как знак победы... Вы помните эту картину, но забыли о войне. Американский народ покупает войну. Война — это шоу-бизнес».

Задача главных героев фильма — президентского спин-доктора и голливудского кинопродюсера — отвлечение внимания от сексуального скандала вокруг президента. С этой целью они начинают фиктивную войну с Албанией, устраивая информационные вбросы в СМИ и сопровождая всё соответствующими эмоциональными посылами: «Наши деды отвоевали право на свободу. Настало время защитить их мечту. Мы защищаем американскую мечту!» Внедренные мысли сразу же расходятся по футболкам ничего не знающих, но уверенных в своей правоте патриотичных граждан.
Тем же руководствуется и «Мистер Фридом», заканчивая свои агитационные речи воодушевляющим: «Вы нигде не сможете это купить. Предложение, которое бывает раз в жизни! Мы без посредников доставляем вам вещи прямо с Фабрики Свободы!». А сортировочным центром в фильме представлено посольство США — большой торговый молл. Доводя мир политики до крайности, фильм напрочь лишает смысла речи правителей, вкладывая в уста неунывающего Фридома бессвязные словесные потоки, состоящие из пустых мотивационных фраз:
«Но если тебе это по силам, мы заберем всё, что у тебя есть, и еще больше. Что вам нужно? Карандаш? Отвертка? Пианино? Вы это получите. Вам нужно два пианино? Пожалуйста. Вот вам два пианино. Ладно, черт с ним. Давайте послушаем немного музыки. Если это хорошо — замечательно. Небо — предел».

Привычными средствами будто бы знакомого человеческого языка сложена каламбурная бессмыслица. В «Великом диктаторе» — первом звуковом фильме Чаплина — голос, и притом громкий, символично обретает диктатор Хинкель. Во время официальных выступлений звуки его голоса — кашляющие и чихающие междометия — исковерканы и не несут никакого смысла. Этот комический прием родственен средневековым карнавальным мистериям, заигрывавшим с комизмом чужих языков. Как и свойственно усыпляющим бдительность речам правителей, звуковые перформансы Хинкеля заливают слушателей потоком ассоциаций и приблизительных значений. Поэтому крайне тревожным прогнозом звучат слова Гитлера в «Он снова здесь» (Давид Внендт, 2015):
«В 1933 году народ не был одурачен пропагандой. Они избрали фюрера, который ясно излагал свои планы. Народ Германии выбрал меня».
Путаница в словах служит результатом путаницы в мыслях. Сатирическое изображение запутавшихся в своих сетях политиков построено на комическом эффекте стыда за их нелепые слова и поступки. Карнавальная правда смешивается с жизненной — и моральные ориентиры теряются. Всё тот же несчастный министр международного развития «В петле» рассуждает со своим помощником:
— Я не знаю, что смелее — уйти в отставку или сказать: «Нет войне!» Или смелее сказать «я не согласен», потом сжать зубы и сделать, как надо. Смело ли делать то, во что ты не веришь?
— Хотя, что смелого в том, что вы поступаете правильно? Ничего. Когда вы поступаете неправильно, это смелее, не так ли? Войны иногда помогают. Война за независимость помогла американцам, допустим. Не так ли? А Вторая мировая война? Я знаю, это была плохая идея, но....
— Я понимаю, о чем ты. Во время Крымской войны появились санитарки...

Фактически та же потерянная философия продолжается в «Смерти Сталина», когда Молотов решает:
«Может, нам стоит следовать этому и защищать то, во что мы верим? Нет. Гораздо лучшим показателем силы будет изменение собственных убеждений под влиянием коллективного лидерства».
Сатира ясно показывает: политика реализуется некомпетентными, суетящимися людьми.
Каждое судьбоносное решение принимается впопыхах, из желания выглядеть сведущим и уверенным. Карнавальная суета правит бал с перевернутым миром добродетели, поэтому в «Докторе Стрейнджлаве, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» бомбардировщики устраивают кровавую перестрелку под гигантским щитом с девизом командования: «Мир — наша профессия».
«В петле» Военный Комитет, решающий судьбы мирного населения одной из ближневосточных стран, называется Комитетом Планирования Будущего. Верно, жестоко и наводит туман. Такие формулировки выгодны, потому что не называют вещи своими именами. Война именуется не войной, а (в данном случае) будущим, которое будет определено кучкой сомневающихся великовозрастных детей в костюмах и мундирах с орденами. На встречи в госдепартамент они ходят с нунчаками, дерутся степлерами и разбивают неповинные факс-машины, с которых отправляют секретные документы врагам.
«Да, я знаю. Мне самому не нравится. Но ведь поэтому это правильно».
«Четыре льва»
Та же детская беспомощность формирует зачин «Четырех львов». Львами называют себя исповедующие ислам лондонские парни, решившие стать террористами-смертниками. Самому радикальному из них, обратившемуся англичанину Барри, принадлежат провокационные поступки (испек торт в виде нью-йоркских башен-близнецов и принес его в синагогу) и суждения. Из диалога с коренным пакистанцем:
— Твой отец покупал когда-нибудь апельсины фирмы Яффа?
— Раз или два.
— Его денежки пошли на атомную бомбу для Израиля. Он еврей.
Фильм поднимает острейшие вопросы поиска идентичности, культурной ассимиляции и религиозного фанатизма. Абсурдное желание героев совершить сакральный акт самоубийства, забрав с собой неверных, схоже с террористическими планами берлинской группы в «Третьем поколении» и тоже запланировано на время проведения массового мероприятия — Лондонского марафона-карнавала в костюмах.

В культурной традиции карнавал прочно связан с обостренным ожиданием катастрофы, конца мира («Плохие времена наступили, брат. В исламе раскол. Женщины забыли о повиновении. Люди играют на струнных инструментах»). Это апофеоз, пиковое состояние распада перед самым финалом — смертью и неизбежным возрождением. Смерть — важнейшее условие воскрешения и продолжения. Для будущего — как раз того, о котором говорили и в военной комнате «Доктора Стрейнджлава...», и на заседании Военного, то есть Комитета Планирования Будущего «В петле», и к которому стремился «Мистер Фридом», взрывая Францию, потому что не удалось навязать ей «свободу», — требовалось расчищение территории и тотальное уничтожение всего старого, неправильного, отжившего, у Бахтина — «официального» и «неизменного».
Карнавал символизирует собой умирание и перерождение, политика — массовые убийства.
«Каин XVIII» (Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро, 1963) — настоящий самоучитель для тиранов. Повторив печальный опыт библейского братоубийства, Каин нарастил силу, зоны влияния и решил замахнуться на весь мир с помощью сказочных дронов — самовзрывающихся комаров.
— В самый кратчайший срок вы должны приготовить мне миллион таких комаров.
— Ваше Величество, такое количество! Неужели вам их не жалко?
— Конечно, жалко. Но в конце концов мы с вашей помощью сделаем новых комаров.
— Я говорю о людях!
— Люди будут детьми и родителями иностранных родителей.
— Ваше Величество, но ведь люди, живущие на земле, почти все иностранцы.
— Кроме нас. Поймите, профессор, как только они взорвутся, оставшиеся невзорвавшиеся оцепенеют от страха. Как только они оцепенеют, их можно брать голыми руками. Вот так, за горло. И я буду вот так их держать, пока они не поймут, что находятся в надежных руках. Как только они это поймут, мы внедрим в них нашу культуру и наш, каинский, образ жизни. Все люди станут богаты. Кроме бедных. Земля превратится в рай, и в этом раю будет один бог — я.

Карнавал со своим вывернутым наизнанку миром празднует тему смерти. Не чужда она и христианской культуре, воспевающей возрождение. Многие церковные праздники имели свою народно-площадную смеховую сторону. Выступая в Средневековье оппозицией официальному христианству, смеховой карнавал пародировал церковные обряды, осквернял святыни и развенчивал как бога, так и все мироустройства. Всеохватный карнавальный смех включает и библейский мотив осмеяния Христа перед распятием, а представления о жизни и смерти меняются местами.

«Я устал. Не помню, кто жив, а кто мертв».
«Смерть Сталина»
Символично, что действие «Бразилии» происходят в праздник Рождества, будто подводя героев к неизбежному концу всего сущего, а мир — к перерождению. В «12:08 к востоку от Бухареста» (Корнелиу Порумбою, 2006) Рождество становится фоном для возрождения в памяти событий революции 1989 года: чету Чаушеску расстреляли именно 25 декабря. В крошечной провинциальной телестудии ведущий задает своим гостям (дальним знакомым) и звонящим в эфир зрителям только один вопрос: «Была ли в нашем городе революция?». Диалоги довольно скоро приобретают фарсовый тон, потому что скатываются в выяснение отношений, а главный вопрос так и не получает точного ответа.
— Вы знаете, как включают и выключают уличные фонари? Вы когда-нибудь обращали на это внимание? Так же начиналась и революция. Революция похожа на уличные фонари: сначала они зажигаются в центре, а потом распространяются по всему городу.
— Как электричество связано с революцией?
— А так. Люди здесь трусы. Они боятся. Когда увидели, что Чаушеску сбежал из Бухареста, они бросились на площадь.
— Вы так и сделали?
— Да! Когда я увидел, что в Бухаресте всё взорвалось, я тоже вышел.
— Разве это революция, если люди вышли на улицу после событий?
— Люди совершают революцию как могут. Каждый делает это по-своему.

В «Смерти Сталина» выступающий на его похоронах Маленков рассуждает:
«Сегодня мы замолкаем в горести и печали. Но означает ли это, что замолкнуть должна революция? Думаю, да».
Карнавальность «Смерти Сталина» абсолютно чиста по своей форме. Социалистические парады заменили ритуальные похоронные процессии, что только усилило торжественность. Сама же смерть обставлена не менее карнавально в объединении высокого и низкого, греха и праведности, смехового и трагического. Сюжет поругания и снятия с креста меняется на ритуальное сжигание трупа Берии, а Сталин буквально умирает со смеху, читая записку, в которой его называют тираном. Удар разбивает его во время заливистого смеха, пока он, после ночных увеселений с кругом приближенных, слушает концерт Моцарта для фортепиано с оркестром № 23. Это же соседство двух начал — духовного и плотского — сопутствует смерти Сталина в «Детях революции» (Питер Дункан, 1996), в котором он делит любовное ложе с фанатичной коммунисткой, приехавшей к нему из Австралии.

Социалистическая идея, апеллирующая к будущему, сталкивается c серьезной преградой в «Смерти Сталина». На протяжении всего фильма преемники Сталина пытаются это будущее — власть — нащупать и поделить. В «Детях революции» карнавальное перерождение представлено во плоти — им становится сын австралийской коммунистки и Сталина, названный, естественно, в честь папы — Джо. Такое воскрешение оборачивается крахом, потому что не только именем, но и нравом сын походит на отца. В «Смерти Сталина» обновления (оправдательные приговоры Берии, послабления всего ЦК) наступают моментально и радикально, а запускают их сами карнавальные персонажи, но позже система, после краткого либерального отклонения («Сталин был либералом». — «Радикалом». — «Радикальным либералом»), возвращается в норму, что доказывает не только сама история, но и финальный кадр со смотрящим в затылок Хрущеву Брежневым. Обнуление и гибель старого мира в ожидании прихода нового, рассчитанного на будущее, оборачивается возведением стен из того же старого камня. Уходя в тюрьму, Йожеф в «Свидетеле» говорит испуганному сыну:
«Не плачь, мальчик мой, ты уже будешь жить в более радостном, счастливом мире».
По мере приближения этот мир приобретает черты все более призрачные.

Противоречие карнавала, воспевающего жизнь методами смерти, связано в народной традиции с темами витализма, жизненной силы и плодородия.
Бахтин пишет, что «карнавальная преисподняя утверждала землю и низ земли как плодоносное лоно, где смерть встречается с рождением, где из смерти старого рождается новая жизнь. Поэтому образы материально-телесного низа пронизывают карнавализованную преисподнюю».
В «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» директор Дынин, одержимый идеей угодить партийной шишке, всюду потакает его племяннице, излишне угождая девочке, которая совсем того не желает. Не нужны преференции и ее дяде, однако Дынин непреклонен, и весь лагерь заранее знает, кто в грядущем параде-карнавале будет исполнять роль Кукурузы-Царицы полей. Бедная Митрофанова. Разумеется, в финале эта роль отойдет «вырвавшемуся» некогда из «режимных» лап Косте Иночкину. Поклонение культу плодовитой власти сочетается здесь с метафорой детства как абсолютного символа будущего.
В картине «Жизнь Пипли» (или «Пипли в прямом эфире», Ануша Ризви, Махмуд Фарукуа, 2010) погубленная государственной политикой сфера сельского хозяйства буквально убивает людей: по всей Индии из-за кризиса фермеры ради финансовой компенсации совершают самоубийство каждые восемь часов («Они не могут обеспечить нам нормальную жизнь, поэтому платят нам за то, чтобы мы скорее передохли?»). На этом фоне редакции газет гордятся выходящими на первых полосах новостями о священной тыкве, а на вопрос о самом большом достижении правительства его глава отвечает:
«Процветание фермеров — ведь это процветание нации».

«Жизнь Пипли» превращается в модель карнавала с его переворачиванием смерти и жизни, когда житель деревни, бедняк Натха, решается на самоубийство, подготовку к которому освещают СМИ. Они сражаются за эксклюзивный материал, а местные политики — за голоса для своих партий. Начинается борьба за жизнь Натхи: одни партии выступают за ее сохранение, другие — требуют смерти. Главы оппозиционных партий пытаются подкупить Натху. Одни дарят ему водяную колонку, на установку которой у героя, разумеется, нет средств. Их соперники преподносят ему перед самоубийством телевизор и цветочные гирлянды. Размахивая этими гирляндами рядом с недоумевающим Натхой, оппозиционер кричит на камеры журналистов:
«За Натхой стоят миллионы! Мы не отступим! И Натха умрет!»
Та же фанатичная борьба за чужую жизнь и одновременно смерть лежит в основе «Гражданки Рут» (Александр Пэйн, 1996). В своеобразном оммаже и одновременно перевертыше «Гражданина Кейна» (Орсон Уэллс, 1941) жизнь непутевой молодой Рут меняется с новостью о пятой беременности. Несмотря на серьезные жизненные проблемы, наркотическую зависимость и четверых детей, живущих в чужих семьях, она крайне инфантильна, капризна и по-прежнему безрассудна. Внезапно помочь героине решается общество. Но и оно не может с собой договориться, призывая сразу и к аборту, и к рождению. Начинаются массовые кампании в поддержку сразу обоих решений. Участники сражаются всеми доступными методами, включая, конечно, подкуп. Он и становится стимулом для Рут в принятии решения.

Одно из достоинств смеха состоит в том, что он снижает и материализует всё высокое, защищенное от осквернения — у сатиры очень высокий болевой порог. По Бахтину, площадная культура противопоставляет культуре официальной «материально-телесный низ». Он называет это «телесной преисподней», куда отправляется всё высокое, старое и серьезное.
Тот же принцип важен для сатиры, питающейся этим развенчанием устоявшихся порядков. В карнавале телесный низ — триумфатор, победитель, в непристойности которого содержится рождение нового, лучшего народного будущего.
То и дело нюхающая герметик Рут ничем не отличается от пытающихся купить жизнь ее нерожденного ребенка «благовоспитанных» граждан. Снимающие крупным планом кучку дерьма Натхи (герой сбежал, и «это всё, что от него осталось») журналисты, сами того не понимая, показывают по всем телеканалам страны метафору жизни. Во имя жизни, а не смерти герои «Андерграунда» отказываются прерывать секс или завтрак даже под начавшейся бомбардировкой. В «Третьем поколении» один из террористов, крадя документы, прячется от охранника в шкафу и мочится в штаны от страха, что невероятно смешит членов его группировки. Эпиграфом к каждой из шести частей этой «комедии об общественных играх, полной напряжения, возбуждения и логики, жестокости и безумия, похожей на сказки, которые рассказывают детям, чтобы помочь им вынести жизнь до самой смерти» служат надписи на стенах общественных туалетов, изобилующие ругательствами. Речь пресс-атташе британского премьер-министра в «В петле» состоит из ругательств, божбы и клятв. В «Свидетеле» собака Йожефа торжественно открывает действие фильма и писает на выложенный на холме лозунг: «Да здравствует наш мудрый вождь!». В «Смерти Сталина» тот вождь лежит в луже мочи, куда, чертыхаясь, по очереди попадают оплакивающие его соратники.

В «Джеки в царстве женщин» (Риад Саттуф, 2014) население некоей страны то ли в Восточной Европе, то ли в Ближнем Востоке питается переработанными экскрементами, которые именуются официальными властями «кашей». Люди не подозревают, что едят продукты собственного производства, слепо веря государству, что они «крайне вкусны и полезны». Сравнить вкус каши не с чем — овощи в стране запрещены. В «Бразилии» эта проблема решена немного иначе: посетители ресторанов едят бесформенную и бесцветную жижу, смотря в это время на висящие на стенах фотографии изысканных блюд.
Антиутопия Саттуфа ценна не только своей карикатурностью, но и гендерным перевертышем: деспотическая власть в выдуманной им Демократической Республике Бубун держится в руках женщин.
Концепция карнавальной травестии, когда привычные социальные, иерархические и гендерные роли меняются местами, получает в Бубунии яркое воплощение.
В фильме разыгрывается сказочная история Золушки, где есть и бедность, и приемная семья, и мечта попасть на бал в королевский дворец. Только Золушка — это парень по имени Джеки. Именно на его хрупких плечах, прикрытых алым хиджабом, лежит бремя гнета удачной женитьбы как единственного билета в лучшую жизнь. С присущей карнавалу обратной логикой «Джеки...» развеивает устои патриархата, ясно демонстрируя их абсурдность.

В «Джеки...» используется сатирический мотив безвременья — разные эпохи и культуры встречаются в одной кризисной точке. В «Андерграунде» время буквально идет вспять: по заказу Марко часы переводятся назад, забирая у жителей подземелья каждый день по шесть часов. «12:08 к востоку от Бухареста» в названии несет точное время начала революции, о котором спорят весь фильм и сходятся в итоге на том, что часы на главной площади города просто неправильно ходят. Та же метафора сломанного хронотопа отмечена в «Добро пожаловать, мистер Маршалл». Город не в состоянии выделить бюджет на починку часов, поэтому для встречи американской делегации стрелки на башне подкручивает один из жителей Вильи-дель-Рио. Тем временем в местной школе ученики изучают географию по картам с существующей Австро-Венгрией.
Культуры и эпохи перемешаны и в «Не трогай белую женщину» (Марко Феррери, 1973). В альтернативной истории кровавых американских завоеваний XIX века индейцы и их колонизаторы ходят по Парижу начала 1970-х, оказываясь на вокзалах и стройках торговых центров. В этой мультивременной реальности, высмеивающей, казалось бы, сам ход истории, американский антрополог не расстается с пакетом чипсов, пока изучает индейский вопрос. Генералы перед финальным наступлением на индейское племя проводят тайное совещание под неослабевающим надзором портрета Никсона.
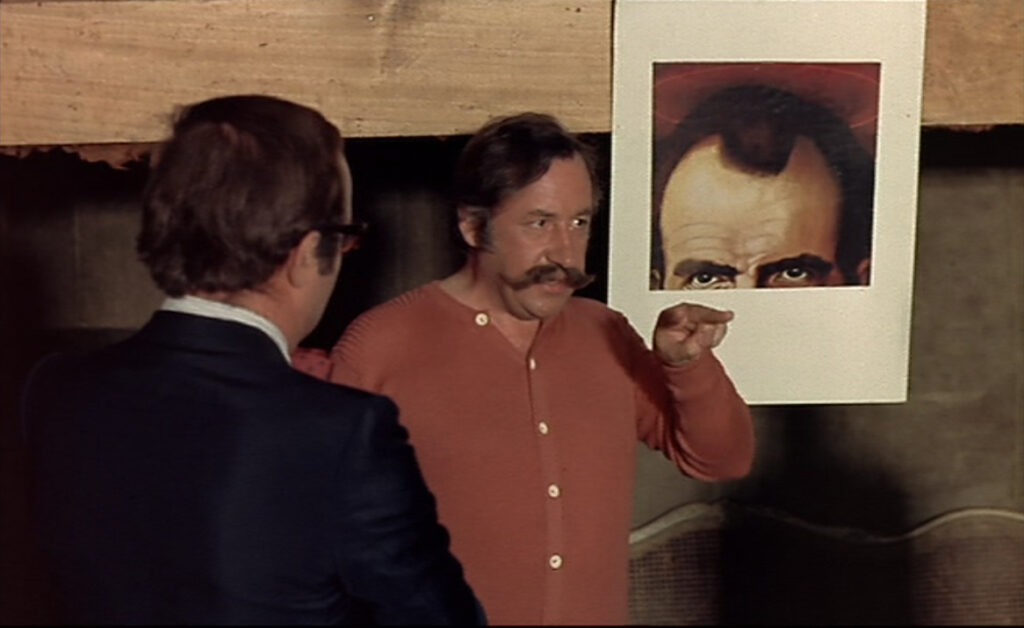
Смеховая культура несет освобождение от оков режима и бесконечной лжи официальной культуры, воспевая истину. Вся мораль карнавала выражена в правде — таком опасном политическом понятии.
«А поскольку всё здесь ложь, это также и истина».
«Третье поколение»
Спасительная функция смеха состоит в отражении жизни. Смех — это подлинная жизнь. Он способен бороться с отжившими нравами, устаревшими представлениями о мире и подавляющей моралью. Смешное не может подчинять, а серьезное только к этому и стремится. В переломные и кризисные моменты развития общества комическое помогает посмотреть на ситуацию буквально с противоположной стороны.
Чаплин говорил, что если бы в период съемок «Великого диктатора» знал всю правду о нацистских концлагерях, то не сделал бы фильм. Фашистские преступления не могли стать комедийной темой. Сила смеха точно отражена в «Продюсерах» (Мел Брукс, 1968). Стремительно теряющий славу и финансы бродвейский продюсер вместе со своим бухгалтером планирует искусную аферу: поставить заведомо провальный мюзикл, чтобы отыграть деньги на качественную постановку. Герои ведут тщательный отбор и отбрасывают всё «гениальное». В результате им попадается сценарий мюзикла «Весна для Гитлера», который написал живущий на крыше с голубями безумный нацист, не снимающий военную каску.
Объявления в газетах: «Проводится кастинг на роль Гитлера. Опыт необязателен».
Кастинг: «Пусть танцующие Гитлеры подождут сбоку. Мы будем смотреть на поющих Гитлеров».

Гротескность обретает дополнительные смыслы, когда продюсеры берутся за постановку и на премьере с ужасом понимают, что она имеет необычайный успех. Шокированные зрители, уже начавшие было покидать зал, вдруг восклицают: «Смотри, он смешной!» Главный герой и абсолютный антигерой мировой истории в исполнении хиппующего музыканта Лоренцо Сент-Дюбуа (или просто ЛСД) не представляет для них опасность.
Зло является миру с обезоруживающей серьезностью и более всего боится прослыть смешным. Комедия борется со страхом, расстреливая его громким смехом. По словам Бахтина, смех побеждает страх «перед властью и правдой прошлого (еще господствующей, но уже умирающей), низвергнутыми в преисподнюю». Именно их перерождения, даже в карнавальной реальности, никак нельзя допустить.
