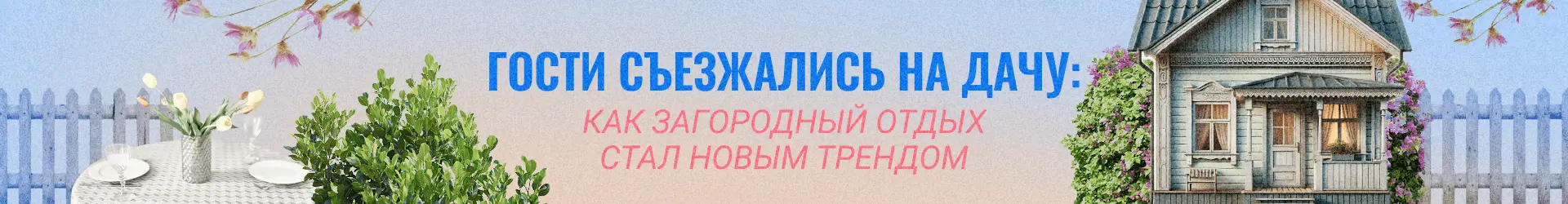Гуманизм или жажда мщения: чему нас учит история и важно ли о ней помнить
Всё пройдет, всё забудется. Войны закончатся, кровь высохнет, империи падут, статуи правителей свалят в кучу в каком-нибудь укромном дворике, а бюстик вождя мирового пролетариата будет продаваться на блошиных рынках как китчевое украшение интерьера. В какой-то момент сотрется и память о них — и те имена и события, которые живут в умах и взывают к потомкам, станут строчками в учебнике истории. Но до тех пор их будут помнить: сначала памятью личной, непосредственной, памятью участников и свидетелей, затем, по мере того, как ее обладатели будут уходить из жизни, ее место постепенно займет память коллективная. Именно ей посвящена недавняя книга Дэвида Риффа (David Rieff) In Praise of Forgetting (Yale University Press, 2016).
К коллективной памяти постоянно апеллируют, о ней много говорят, ее проявления — мемориалы, церемонии и дни поминовений — постоянно присутствуют в нашей жизни. Книга ставит непростые вопросы об условности конструкта исторической памяти, о ее пользе, о рисках, которые она с собой несет, и о том, как ее ставят себе на службу и гуманистические, и не очень гуманные политические силы.
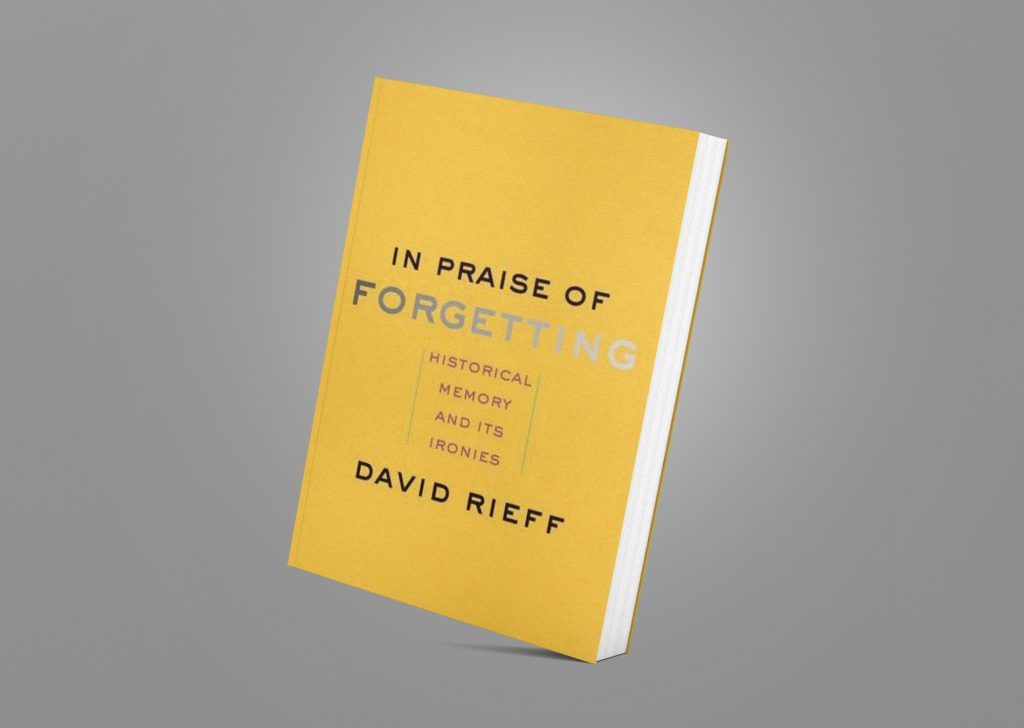
Наука или инструмент политики?
Первое и важнейшее, что нужно сделать, — разделить историю и коллективную память о ней. История — точная наука. Это источник того знания, у которого нет задачи преподнести урок, сподвигнуть или вдохновить, потому что оно, строго говоря, не обращается к чувствам. История изображает события и деятелей неоднозначными и воздерживается от оценок, а потому нередко вызывает недоумение: гордиться ли Колумбом как отважным первооткрывателем или же презирать его как жестокого и алчного испанского подданного, который к тому же не в ладах с географией?
Коллективная память лишена таких сомнений: мистическая по своей природе, она взывает ко вполне конкретным чувствам и использует исторические факты как материалы для мифотворчества. Не так важно, на чем строить солидарность: на гордости за военные успехи, желании отомстить за унижения прошлого, разочаровании в текущем курсе страны, зависти или обиде на соседа — все чувства хороши, когда нужно легитимировать определенную политическую и социальную повестку.
Одни создают миф о прекрасной Ирландии, многовековой жертве английского гнета, другие — о Франции, стране Просвещения, третьи грезят об Америке, где смекалкой и трудом можно достичь и уважения в обществе, и вершин списка Forbes.
Исторические фигуры тоже перерабатываются и берутся на вооружение политическими силами, причем иногда противоположными. Так, Жанна д’Арк во второй половине XIX века для правых националистов олицетворяла борьбу с захватчиками, а для левых была символом бесчинств церкви, пока та ее не канонизировала в 1920 году. Прошлое переделывают, чтобы подкрепить свое существование в настоящем. Этим приемом пользуются не сторонники какой-то конкретной идеологии, а в равной степени и консервативные силы, и те, которые считаются прогрессивными. Важно, чтобы этот миф находил отклик в общественных настроениях своей эпохи, ведь привить его на пустом месте будет сложно.

Память одной нации или не только?
Обращения к коллективной памяти звучат особенно громко, когда представления людей о своей идентичности становятся менее четкими. Например, существование Евросоюза как наднационального формирования и миграционный кризис последних лет размывают понятие нации.
Но можно ли взглянуть чуть шире и использовать коллективную память, чтобы сплотить не одну, а несколько наций? Для этого Дэвид Рифф обращается к книге Авишаи Маргалита «Этика памяти» (Avishai Margalit, The Ethics of Memory, 2002). Маргалит предлагает договориться о глобальном этическом минимуме, оттолкнуться от примеров, понятных людям всех стран. Это примеры «радикального зла»: холокост, рабство, депортации и геноцид — именно их нужно держать в голове, их повторения нужно не допустить любой ценой. Звучит разумно, но вера в разум как раз недооценивает ту потребность в мистическом, на которую отзывается коллективная память. Кроме того, Маргалиту можно задать вопрос: как и зачем жертве геноцида в Руанде помнить о тех, кто оказался в ГУЛАГах? И почему среднестатистический молодой и благополучный европеец должен остро переживать страдания того и другого? Нужно ли его к этому принуждать? А заставлять иммигрантов присоединяться к поминовению погибших в Первой мировой?
На примеры «радикального зла» многие почти рефлекторно отвечают мантрой Never again. Она созвучна афоризму Джорджа Сантаяны, который тоже часто вспоминают в разговорах про историческую память: «Те, кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его вновь».
Однако память о Холокосте не смогла предотвратить другие геноциды: ни в Бангладеше в 1971 году, ни в Камбодже в конце 1970-х, ни в Руанде в 1994-м. Значит ли это, что историческая память даже об ужасах не защищает общество от их повторения?
Что прошлое не может нас ничему научить? Или это означает, что прошлое — в том виде, в котором мы его себе представляем, — никогда не повторяется? Но тогда получается, что коллективная память, воссоздающая искаженное прошлое в свете настоящего и возможного будущего, лишает исторический момент его уникальности.

Гордость за победы или боль прошлых травм?
Тогда приносит ли вообще коллективная память пользу? Безусловно: она важна психологически, ведь ощущение принадлежности к группе не только укрепляет национальное единство, но и помогает пережить потрясения, дает их жертвам силы и утешение. Кроме того, связанные с коллективной памятью ритуалы и церемонии — один из островков религиозности в мире, где ее становится всё меньше.
Цветан Тодоров в небольшой работе «Злоупотребления памятью» (Tzvetan Todorov, Les abus de la mémoire, 1995) рассуждает о критериях пользы от исторической памяти. С его точки зрения, она должна служить уроком, предлагающим такой принцип действия в настоящем, который поведет людей к торжеству морали и справедливости в будущем. Звучит здраво. Но под такую логику вполне подпадает и бен Ладен, по-своему выстраивающий исторические параллели, где крестоносцы XII века, строители Суэцкого канала и российские войска в Первой чеченской кампании ведут одну тысячелетнюю войну против исламского мира. И мы снова возвращаемся к тому, что договориться об общей памяти невозможно и что разные группы людей по-разному конструируют свою историческую память из одних и тех же событий.
В последние десятилетия даже в рамках одного общества сквозь «официальную» память большинства, часто настоянную на чувстве национального величия и гордости за страну, всё громче оказываются слышны голоса жертв — тех, кто когда-то прошли через травму (физическую, культурную, психологическую или юридическую), например дискриминацию. На этом подробно останавливается еще одна исследовательница коллективной памяти Алейда Ассман (Aleida Assmann) в шестой главе своей книги «Новое недовольство мемориальной культурой» (Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur, 2013), но о ней Дэвид Рифф не упоминает. Как только история обратилась от победителей к побежденным или к некогда преследуемым, выяснилось, что у них своя память о тех событиях. Не учитывать эту «память ран» нельзя, но и включить ее в дискурс большинства оказывается непросто: поборники старого консенсуса клеймят меньшинства (особенно национальные и сексуальные) за неблагодарность, а те, в свою очередь, настаивают на значимости своих чувств в масштабах общества.
Если есть победители, то всегда есть и побежденные. И если память победителя тяготеет к хвастовству (и не такому уж безобидному в случае с «можем повторить»), то память поражения нередко строится на желании взять реванш.
Единство на почве перенесенного страдания превращает память в злопамятность, которая — и тут Дэвид Рифф становится более конкретным — вынашивает жажду мщения.
Здесь он повторяет тезис Кристиана Майера из книги «Заповедь забвения и неотвратимость памятования» (Christian Meier, Das Gebot zu vergessen und die Unabweisbarkeit des Erinnerns, 2010): память не дает рассеяться деструктивным силам, во власти которых находятся участники конфликта, и способствует — не сегодня, так завтра — росту насилия. Примеры тому — Ирландия, Босния, Косово, Ирак, Сирия, Израиль и Палестина. Даже Гражданская война в США, закончившаяся полтора века назад, не перестает вносить раскол в американское общество. Причина, видимо, в том, что по природе человек больше склонен к агрессии, а не к прощению. Следует ли из этого, что в некоторых случаях более гуманным и миролюбивым будет забыть, а не помнить?

Докопаться до правды или приказать забыть?
Но можно ли заставить общество забыть? В истории есть примеры таких попыток. Нантский эдикт (закон, с помощью которого французский король Генрих IV в 1598 году пытался положить конец войне между католиками и протестантами) гласит: «Воспоминание обо всем, что произошло с той и с другой стороны с начала марта 1585 года <…> будет изглажено, как будто ничего не происходило». Помогло ли это? Вроде бы да: с подписания Нантского эдикта начинается Великий век, период относительного спокойствия внутри страны, хотя самого Генриха IV убил в 1610 году католический фанатик Равальяк, а указ отменили в 1685 году.
Пример более современный — пакт, который заключили политические силы Испании после смерти Франко в 1975 году. Чтобы сосредоточиться на будущем страны и перейти от диктатуры к демократии наиболее безболезненно, они постановили не преследовать тех, кто был ответственен за массовые репрессии, переименовать улицы, названные в честь франкистов (но не именами республиканцев, а более политически нейтрально), и избегать в публичных выступлениях спорных вопросов недавней истории страны.
А как же правда? И как смотреть в глаза жертвам, палачи которых избегают наказания?
Когда общество расколото, считает Рифф, гуманнее будет дать преступникам спокойно уйти во имя мира и будущего нации.
Например, когда Чили в 1990 году переходила от диктатуры Пиночета к демократии, его можно было бы сразу же посадить на скамью подсудимых — настолько его преступления были очевидны. Однако в таком случае существовал риск того, что Пиночет не отдаст власть мирно, а учитывая, что военные были на его стороне, такие попытки могли закончиться кровью. Поэтому ради мира в стране правдой и справедливостью пришлось пожертвовать — но не совсем, а лишь на время: в 1998 году, когда стало понятно, что Пиночет уже не пользуется такой поддержкой в обществе, ему всё же предъявили обвинения.
Случается, что государство само способствует поискам истины и расследует преступления прошлого. Например, после падения апартеида в Южной Африке начала работать Комиссия правды и примирения, которая выслушивала показания жертв режима и либо амнистировала, либо преследовала тех, кто был к нему причастен. С одной стороны, такие комиссии призваны сохранять государство единственным источником не только судебной власти, но и коллективной памяти. С другой — попытки ее оспорить или хотя бы поставить под сомнение будут встречать крайне резкое сопротивление.
Защитить память законодательно пытается, например, Франция с помощью «мемориальных законов» (lois mémorielles). Самый известный из них, закон Гейссо (loi Gayssot) 1990 года, приравнивает отрицание действий нацистов к уголовному преступлению. Другие законы запрещают оправдывать работорговлю в период колониализма и отрицать геноцид армян.
Однако даже в таких вопросах, где, кажется, могли бы сойтись многие (вспомним Маргалита и его минимальный этический консенсус), коллективная память сталкивается с сопротивлением истории и историков. Они считают это государственным (а значит, политическим) вмешательством в их исследования и ударом по свободе слова.
Ученые говорят о том, что позиция «мемориальных законов» — не просто моральная, а морализаторская — противоречит стремлению исторической науки к беспристрастности.
Государственные попытки законодательно регулировать память встречают недоверие. Ситуация усугубляется тем, что власти в принципе склонны прятать свои скелеты в шкафу и защищать их юридически — достаточно вспомнить преследования Эдварда Сноудена и Челси Мэннинг.
Истина, справедливость или мир?
Итак, мы видим три понятных и благородных устремления: к правде, к торжеству правосудия и к тому, чтобы жить в мире с согражданами и соседями. Коллективная память перераспределяет баланс между ними. Представления о морали и стремление к справедливости опираются на историческую память и нуждаются в том, чтобы она передавалась из поколения в поколение. Борцы за права внутри страны и вне ее считают, что торжество закона необходимо, чтобы установился относительно стабильный мир.
Однако часто оказывается так, что отношения между государствами выигрывают как раз от того, что память об их раздорах и обидах стирается и остается в прошлом.
Официальное признание и извинение разряжает обстановку — вспомним хотя бы то, как улучшились российско-польские отношения после того, как в 2010 году Госдума признала Катынский расстрел преступлением сталинского режима.
Да, тяжело оставить надежду на справедливость, когда обидчику удается сохранить свою невиновность в глазах окружающих. Но разве даже худой мир не стоит того, чтобы сделать усилие и постараться преодолеть обиду?
Книгу Дэвида Риффа можно купить здесь, есть французский перевод. Кроме этого, он изложил ее основные идеи в большой статье для The Guardian.