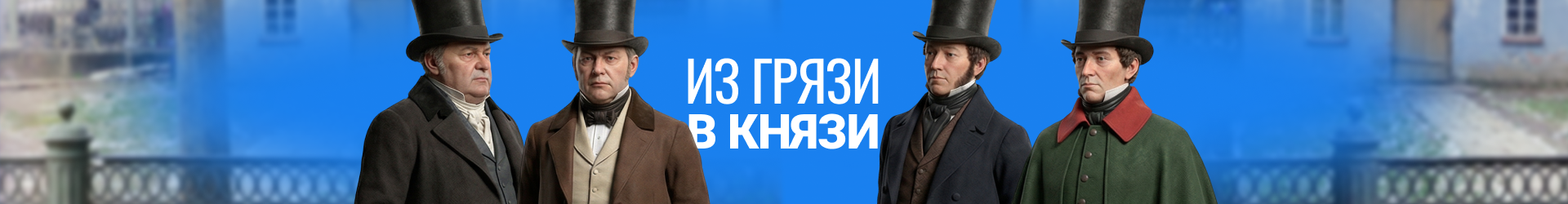«Я пью под будущую жажду. Вот почему я пью вечно». Как Франсуа Рабле превращал свои книги в литературные застолья
Автор романов о Гаргантюа и Пантагрюэле взаимодействует с читателем очень необычным образом — казалось бы, их отношения возникают на почве пьянства и обжорства. Рабле уверяет, что сам пьяница и книгу писал исключительно выпивши, и предлагает читателю браться за его роман в таком же состоянии. Он пишет свои «книги, полные пантагрюэлизма» для вполне определенного читателя — собутыльника, единомышленника, ценителя вина и любителя посмеяться. Для него автор создавает целые гротескные миры и наполняет их юмором, философией и глубоким гуманизмом. О том, как и чем угощает автор на своих гротескных литературных пирушках, рассказывает Анна Ефремова
«Вам когда-нибудь приходилось откупоривать бутылку? Дьявольщина! Вспомните, как это было приятно», — так начинает свой разговор с читателем магистр Алькофрибас Назье, извлекатель квинтэссенции. Под личиной рассказчика скрывается бесподобный мэтр Франсуа Рабле, автор эпических шедевров о двух великанах — Гаргантюа и его сыне Пантагрюэле. Первая книга Рабле, сатирическая эпопея «Пантагрюэль, король дипсодов, показанный в его доподлинном виде, со всеми его ужасающими деяниями и подвигами», вышла во Франции в 1532 году и была мгновенно распродана. Второе и самое известное его произведение — «Повесть о преужасной жизни великого Гаргантюа» — было опубликовано в 1534 году; затем свет увидели еще три книги о приключениях Пантагрюэля. Пять гротескно-сатирических, глубокомысленных и в то же время до неприличия скабрезных романов о добродушных великанах — вот весь скромный фонд раблезианской карнавальной литературы, которая до сих пор заставляет читателя оставить все заботы, хорошенько посмеяться и, конечно, выпить.

Народный писатель для элит
На пороге каждого своего текста Рабле встречает читателя, как в кабаке: в легком подпитии, гостеприимно распахнув объятия и как бы приглашая присоединиться к застолью («ведь вы, уж верно, насчет того, чтобы выпить, от меня не отстанете?»). Между автором и читателем — отныне сотрапезниками и собутыльниками — сразу возникает атмосфера долгожданной пирушки в приятной компании. Гадая, кому адресованы эти строки, написанные в середине беспокойного для Франции XVI века, легко ошибиться. Народно-праздничный, площадной язык, обилие вульгарных шуток и «низких» сюжетов в книгах Рабле обеспечили ему звание народного писателя, хотя его тексты, полные глубокой философии, обращены вовсе не к народу, а к элите французского ренессансного общества.
Пять веков назад издать книгу означало обратиться к очень небольшому числу образованных людей, которые в состоянии позволить себе купить ее и прочитать на досуге. Правда, несмотря на то, что именно европейское Возрождение положило начало одиночному «молчаливому» чтению, коллективное чтение — когда кто-то один, обученный грамоте, читает вслух группе слушателей — продолжало практиковаться в семейном кругу, среди крестьян и даже при дворе. Дело было не только в неграмотности или дороговизне печатной продукции, но и в желании разделить момент чтения с близкими людьми — желании, которое пришлось бы очень по душе самому Рабле.
Хотя его произведения имели успех как у искушенной публики, так и у простого народа, не все современники оценили дерзость автора. Но Рабле это мало интересовало: уже в предисловии он заявляет, что вход в его литературный кабак — только по приглашениям.
«Запомните, кого именно я к себе приглашаю, чтобы после не вышло недоразумений!», — покрикивает автор, заранее выпроваживая впечатлительную публику. Он прекрасно знает, кого готов угощать своим сочинением, а кто этого не заслуживает. Что за компанию собирает к столу Рабле и не кончится ли все обычной попойкой, видно уже из предисловия.
Две эпохи, два читателя: агеласты против пантагрюэлистов
Пролог, лежащий на пороге текста и уже пропитанный его логикой и тональностью, — это только закуска, прелюдия к самому застолью, но именно здесь автор намечает образ будущего собутыльника читателя. Во вступлении к первой книге, «Пантагрюэль», Рабле натягивает маску балаганного зазывалы и рассыпается в глумливых эпитетах, которые Михаил Бахтин называл «превосходной степенью гротескного реализма». При этом, несмотря на шутовское самоуничижение («милостивые государи», «покорнейший слуга ваш»), характерное для комической маски Рабле, в обращении нет ни тени покорности, ни даже уважения к читателю. Автор то насмешливо похвалит публику, то прикрикнет на нее: «Чтоб падучая вас била, чтоб молния вас убила, <...> чтоб во всем теле у вас приключилось трясение, а в заднем проходе воспаление, <...> если вы не будете твердо верить всему, о чем я поведаю вам!»
Своих читателей Рабле заранее разделяет на два лагеря, ни для кого не оставляя нейтральных эпитетов: доброжелателей он преувеличенно хвалит («славнейшие и доблестнейшие воители», «любители чтения увлекательного и благопристойного»), а будущим критикам достаются проклятия все в том же балаганном стиле («шайка покрытых болячками самохвалов»). Пока что автор не просит от читателей ничего, кроме как быть благосклонными к его рассказу.
Центральная тема книги — жизнь и похождения великана Пантагрюэля: его детство, воспитание, путешествия по средневековой Франции, учеба в бесчисленных университетах и военные авантюры. Казалось бы, безобиднейшая литература. Но после публикации книги на Рабле немедленно обрушился гнев французского духовенства и ученых-схоластов — именно они стали мишенью для его «низкого» гротескного юмора. Текст насыщен сатирическими выпадами против Церкви, монашества и догм средневековой учености.
Тут и там раскиданы пародии на библейские сюжеты, а сам пролог — не что иное, как вывернутая наизнанку духовная проповедь: всех инакомыслящих читателей, которые не оценят его труды, автор обвиняет — ни много ни мало — в ереси.
В первой половине XVI века такая наглая издевка над церковной политикой поставила бы автора в крайне опасное положение, если бы не выбранный заранее тон балаганной импровизации, частично обеспечивший безнаказанность. Теологический факультет Сорбонны — мекка средневековой европейской учености — осудил книгу за вопиющую непристойность и шутовскую трактовку священных текстов, но заточения или костра Рабле, в отличие от некоторых современников, избежал.
В то же время прогрессивно настроенная аристократия и все возрастающее число сторонников Реформации — настоящая публика Рабле — с нетерпением ждали продолжения, и спустя два года вышло продолжение под названием «Повесть о Гаргантюа». В прологе автор, который уже лучше понимает соотношение сил в читательской аудитории, дает отпор клерикалам, ретроградам и всем, кто обличал его первую книгу: «фарисеям», «притворщикам», «клеветникам», «законникам-мздоимцам», «крючкотворам», «ученым буквоедам», «крохоборам», «ханжам», «лицемерам», «святошам», «вертишейкам», «подслушейкам», «подглядунам», «бл**унам», «бесопослушникам».
Написанные на рубеже двух исторических эпох, сочинения Рабле проводят границу между уходящим средневековым миром — закостеневшим в своей серьезности и устаревшим — и грядущим светлым миром Возрождения.
Одно из главных оскорблений, которое Рабле бросает представителям старого мировоззрения, — «агеласты», то есть «не умеющие смеяться». Способность хорошенько посмеяться и, смеясь, возвыситься духовно — вот что отличает пантагрюэлистов, представителей нового мира, мира правды и свободы, который вот-вот сбросит мрачные оковы Средневековья. Этих мудрых и веселых читателей автор и приглашает на свой литературный банкет. «И — гуляй, душа!»
«Итак, мои милые, развлекайтесь и — телу во здравие, почкам на пользу — веселитесь, читая мою книгу. Только вот что, балбесы, чума вас возьми: смотрите не забудьте за меня выпить, а уж за мной дело не станет!»
Этот символический договор между автором и читателем, скрепленный тостом за дружбу, закладывает основу всего их панибратского общения на протяжении пяти книг. Рабле с теплотой обращается к своим «добрым ученикам», «балбесам» и «шалопаям», ко всем снисходительным читателям, которые открывают книгу «для того, чтобы весело провести время», и уж точно не оскорбятся на очередную сальную шутку.
Автор впускает друга-читателя в святая святых своего литературного мира, где «я» и «вы» сливаются в «мы»: «Вы, читающие их ради приятного времяпрепровождения, и я, для препровождения времени их писавший».
Главное условие для того, чтобы разделить трапезу с мэтром Рабле, — благосклонность ко всем его дурачествам. Второе, но не менее важное условие — взять в одну руку книгу, а в другую — стакан вина, чтобы войти в то же состояние, при котором эта книга писалась:
«На сочинение этой бесподобной книги я потратил и употребил как раз то время, которое я себе отвел для поддержания телесных сил, а именно — для еды и питья. Время это самое подходящее для того, чтобы писать о таких высоких материях и о таких важных предметах, что уже прекрасно понимали Гомер, образец для всех филологов, и отец поэтов латинских Энний, о чем у нас есть свидетельство Горация, хотя какой-то межеумок и объявил, что от его стихов пахнет не столько елеем, сколько вином. То же самое один паршивец сказал и о моих книгах, — а, да ну его в задницу!»
Весельчак, любитель выпить и закусить, добрый друг и ученик — одним словом, пантагрюэлист — вот кто больше всего симпатичен Рабле. С таким читателем он заключает соглашение, заверяя его в преданности («ибо вам, а не кому другому, посвящены мои писания!») и предлагая нечто уникальное: «В книге моей вы обнаружите совсем особый дух и некое, доступное лишь избранным, учение, которое откроет вам величайшие таинства и страшные тайны, касающиеся нашей религии, равно как политики и домоводства». В прологе читатель получает и ключ к прочтению, и этический кодекс пантагрюэлистов, в компании которых проведет следующие полторы сотни страниц, и правила поведения за столом: в конце концов, для Рабле предисловие — это прежде всего предлог чокнуться бокалами, а то и выпить на брудершафт, прежде чем приступить к основному застолью.
«Итак, на доброе здоровье, откашляйтесь хорошенько, выпейте за троих, насторожите, коли есть охота, уши, и вы услышите чудеса о доблестном и добром Пантагрюэле».
«Отведайте этой главы»: почему истина, как всегда, в вине
Так что же такое пантагрюэлизм, которым, как уверяет рассказчик, полна его книга? И кто такие пантагрюэлисты, в кругу которых ему всегда рады? Автор сразу записывает читателя в ту же компанию: «Я убежден, что все мои читатели обладают неким родовым свойством и лично им присущей особенностью, которую предки наши именовали пантагрюэлизмом». Особенность эта заключается в том, чтобы «жить в мире, в радости, в добром здравии, пить да гулять». Убедившись, что его окружают только истинные пантагрюэлисты, Рабле откупоривает для них свой литературный тайник: «Я открываю бочку только для вас, добрые люди, пьяницы первого сорта и наследственные подагрики».
Вообще, пьяницы, венерики и подагрики упоминаются в романе часто и с теплотой, ведь в смеховой литературе Ренессанса алкоголизм, сифилис и подагра считались болезнями «веселыми», вызванными тем, что человек не знает меры в еде, вине или сексе.
Смех же с его целительными свойствами — главная ценность раблезианского пантагрюэлизма, «глубокой и несокрушимой жизнерадостности, пред которой все преходящее бессильно». Читателю предлагается наслаждаться жизнью, веселиться и ничего не воспринимать всерьез, в том числе открытую перед ним книгу.
Затем начинается восьмисотстраничное застолье: Рабле долго и от души угощает своим текстом. Он уходит от иерархичности средневекового мироустройства, до краев наполняя страницы романа почти невыносимым разнообразием вещей, событий и языковых игр.
В произведениях Рабле, как сладкое и соленое, перемешивается высокое и низкое: обжорство и разврат — с идеалами гуманизма, телесные жидкости — с принципами педагогики, цветистая брань — со строгой латынью, нескончаемый перечень подтирок для задницы — с притчами об античных философах.
Все это замешано на густом соусе из смеха и гротеска; как из рога изобилия, сыпятся уморительные перечни феодальных владений, поварских прозвищ, океанических рыб, французских законов, детских игр, выдуманных книг. Перед читателем встает нагромождение эпитетов и синонимов — чего стоят только триста три определения мужского полового органа.
Словно яства, Рабле выкладывает перед читателем многостраничные, многостраничные списки: подробнейшим образом перечисляются ремесла, животные, виды оружия, науки, цены, травы, достоинства гульфиков и, конечно, самые невообразимые блюда. Всё это пишется с явным удовольствием — а уж с каким удовольствием читается! Автор смакует анекдоты, каламбуры, ругательства и философские сентенции, а у сюжета тем временем лишь одна функция — связывать все это в единое повествование. Текст Рабле, как и тела его персонажей, кувшины и блюда, переполнены — энергией, жизнью, снедью, вином. Вино, конечно, занимает центральное место в романе. Немереное количество вина.
«Насколько же запах вина соблазнительнее, пленительнее, восхитительнее, животворнее и тоньше, чем запах елея! И если про меня станут говорить, что на вино я трачу больше, чем на масло, я возгоржусь так же, как Демосфен, когда про него говорили, что на масло он тратит больше, чем на вино. Когда обо мне толкуют и говорят, что я выпить горазд и бутылке не враг, — это для меня наивысшая похвала».
Рабле ни на минуту не забывает о читателе, более того, все повествование представляет собой обращенный к собеседнику разговор: «Я вам сейчас расскажу про него одну историю, чтобы было за кого выпить для начала (а ну-ка, налейте!)». Периодически автор отвлекается от повествования, чтобы в скобках обратиться к слушателям с фразой вроде «(скажите, когда вам захочется выпить)». Излюбленная выходка автора — приправить свои пьяные россказни образами из античной истории:
«Погодите, дайте мне хлебнуть из бутылочки, — это мой подлинный и единственный Геликон, моя Гиппокрена, незаменимый источник вдохновения. Только испив из него, я могу размышлять, рассуждать, решать и заключать. Затем я хохочу, пишу, сочиняю, кучу. Энний выпивая творил, творя выпивал. Эсхил (если верить Плутарховым Symposiaca) выпивал сочиняя, выпивая сочинял. Гомер никогда не писал натощак. Катон писал только после возлияния. Попробуйте мне теперь сказать, что я не руководствуюсь примером людей высокочтимых и глубокоуважаемых».
Добродушное, раскованное, затрапезное общение с читателем создает атмосферу близости, ощутимую, как аромат трактирных харчей, и вот уже рука непроизвольно тянется к бутылке. В пятой главе «Гаргантюа» читатель оказывается в эпицентре праздничной пирушки: мимо него проносится карусель богохульных острот вперемешку с латинскими изречениями, и уже непонятно, это герои пытаются напоить друг друга или автор пытается вызвать жажду у читателя:
— Что раньше появилось: жажда или напитки?
— Жажда, ибо кому бы пришло в голову ни с того ни с сего начать пить, когда люди были еще невинны, как дети?
— Напитки, ибо privatio presupponit habitum. Я — духовная особа.
— Мы, невинные детки, и без жажды пьем лихо.
— А я хоть и грешник, да без жажды не пью. Когда я, господи благослови, начинаю, ее еще может и не быть, но потом она приходит сама, — я ее только опережаю, понятно? Я пью под будущую жажду. Вот почему я пью вечно.<...>
— А мне без всякого законного основания не подливают!
<...>
— Вы промачиваете горло для того, чтобы оно потом пересохло, или, наоборот, сперва сушите, чтобы потом промочить?
— Я в теориях не разбираюсь, вот насчет практики — это еще туда-сюда.
— Живей, живей!
— Я промачиваю, я спрыскиваю, я пью — и все оттого, что боюсь умереть.
— Пейте всегда — и вы никогда не умрете.
— Если я перестану пить, я весь высохну и умру...
— А ну-ка, виночерпии, создатели новых форм, сотворите из непьющего пьющего!
<...>
— После меня будет тут чем мухе напиться?
— Пейте, я вас прошу!
В последних книгах романа тема выпивки выходит из сферы одних только диалогов и приобретает космогонические масштабы. Пантагрюэль и его друзья отправляются в долгое и полное приключений путешествие к оракулу Божественной Бутылки. Эта одиссея символична сама по себе, но еще более символично прорицание, которое после всех просьб и церемоний совершает Бутылка, кладезь истинного знания и мудрости. Слово это — Trink! («Пей!»), «такое веселое, такое мудрое, такое определенное», «известное и понятное всем народам». Истина — в вине, одним словом.
«Не способность смеяться, а способность пить составляет отличительное свойство человека, и не просто пить, пить все подряд — этак умеют и животные, — нет, я разумею доброе холодное вино <...> ибо вину дарована власть наполнять душу истиной, знанием и любомудрием».
Видимо, та же власть дарована и текстам Рабле, особенно если читатель запивает их вином, как завещал автор. В конце последней книги оракул говорит компании Пантагрюэля то, что вполне мог бы сказать своему читателю сам Рабле: «Ваши философы, проповедники, ученые кормят вас хорошими словами через уши, мы же вводим наши наставления непосредственно через рот. Вот почему я не говорю: „Прочтите эту главу“, а говорю: „Отведайте этой главы“».
Возвышающие дурачества: застолье как состояние души
Пусть Рабле, потешаясь над своими критиками, писал, что дурачества — «единственный сюжет и единственная тема» его сочинений, на самом деле его тексты многослойны, насыщены глубокими размышлениями и отсылками. Современник писателя, историк и гуманист Этьен Пакье писал, что тот снискал читательскую любовь дурачась, но дурачась «мудро». Франсуа Рабле был исключительно образованным человеком, врачом по профессии, в прошлом — францисканским монахом; он был ненасытным читателем, полиглотом, знатоком древнегреческих и древнеримских авторов, итальянской поэзии, гуманистической мысли, науки и права. Его романы чрезвычайно энциклопедичны, полны ученых терминов, смелых неологизмов и нескончаемой игры слов.
Несмотря на бесконечные шутки ниже пояса, Рабле ждет от своего читателя образованности — достаточной, чтобы считать бесконечные отсылки и аллюзии на классиков.
Пример тому — «Пир» Платона, настольная книга всех европейских неоплатоников, либертинов, мистиков и гуманистов Ренессанса, о которой автор рассказывает своим любимым «подагрикам» и «венерикам» в прологе к «Гаргантюа».
Рабле не просто заигрывает с читателем — дескать, сокровенный смысл откроется только самым внимательным. Реакция духовенства и Сорбонны на первую книгу заставила его быть гораздо аккуратнее в будущем, потому он и предлагает читать между строк, выискивая то-что-хотел-сказать-автор за нагромождением дурачеств и непристойных шуток: «Истолкуйте в более высоком смысле все то, что, как вам могло случайно показаться, автор сказал спроста». Читатель должен не просто расшифровать очередную сатиру на монашество, он должен не угодить в другую, гораздо более масштабную ловушку — не принять внешнее, шутовское за главное. Ключевой посыл Рабле к читателю — в его знаменитой метафоре про разгрызание мозговой косточки (опять мотив еды и опять неожиданное смешное сочетание высокого и низкого). Юмор, в который обернуто абсолютно любое послание автора, тоже имеет гораздо более глубокое, чем кажется на первый взгляд, значение: смех целителен, он освобождает от ложной серьезности и заумности, возвышает и утешает человека. Самые вульгарные авторские шутки наполнены глубоким оптимизмом, в котором время от времени нуждается любой читатель.
Одним словом, пантагрюэлизм не сводится к тому, чтобы пожрать и выпить; Рабле предлагает своим соратникам нечто большее: систему моральных ценностей, утешение и напутствие, братское общество, совместный поиск истины.
Он раз за разом машет читателю из-за стола, приглашая на банкет пантагрюэлистов, в котором уже участвуют Сократ, Плутарх, Плиний, Гомер, Лукиан и множество других античных и современных автору гостей. Некоторые гуманистические течения того времени настолько ассоциировались с атмосферой затрапезных бесед, что их называли «застольным либертинизмом». Вот и Рабле довольно улыбается и похлопывает по спине читателя, который за обе щеки уплетает его сочинения.
Идеальный читатель-собутыльник Франсуа Рабле — это философ-весельчак, жизнелюбивый и обладающий достаточной внутренней свободой, чтобы вместе с автором посмеяться над изжившей себя средневековой моралью. Как оказалось, доброжелателей у писателя было и будет гораздо больше, чем критиков. Его словесная энергия и неутомимая жизненная сила не истощились даже спустя пятьсот лет и не теряются даже при переводе на другой язык. Из глубины веков Рабле берет читателя за шкирку и подтаскивает к себе: не нравится — не читай, а уж если понравилось, будь добр откупорить вина и навеселе дочитать все восемьсот страниц. Франсуа Рабле уже нет в живых, но у него на пиру до сих пор принято смеяться, наслаждаться жизнью и ценить маленькие радости, в которых заключено больше счастья, чем во всех доктринах на свете.
«А ну-ка, братцы, выпьем! Полней стаканы, друзья! Не нравится — не пейте. Я не из тех назойливых пьянчуг, которые принуждают, приневоливают и силком заставляют собутыльников и сотрапезников своих хлестать и хлестать — и непременно залпом, и непременно до чертиков, а это уж безобразие. Все честные пьяницы, все честные подагрики, все жаждущие, к бочке моей притекающие, если не хотят, пусть не пьют, если же хотят и если вино по вкусу их превосходительному превосходительству, то пусть пьют открыто, свободно, смело, пусть ничего не платят и вина не жалеют. Такой уж у меня порядок. И не бойтесь, что вина не хватит, как это случилось на браке в Кане Галилейской. Вы будете выливать, а я — все подливать да подливать. Таким образом, бочка моя пребудет неисчерпаемой. В ней бьет живой источник, вечный родник».