«Я стараюсь найти способы производства значений между „да“ и „нет“, чтобы найти то самое „оно“, что обозревает мир». Интервью с Рэйчел ДюПлесси — американской поэтессой и феминистской исследовательницей
В чем заключается сходство между поэзией и коллажем? Что такое Длинная Мясная Анимационная Программа с Сюжетным Ходом в виде Передового Феминистского Лайма? Поэт и исследователь цифровой литературы Кирилл Азерный поговорил с американской поэтессой Рэйчел ДюПлесси о русской поэзии и доверии к переводчикам, об ауре объектов и коллажных техниках, а также о том, почему в искусстве женщины так часто представлены лишь как культурные артефакты.
Недавно в поэтическом издательстве «Полифем» вышел первый том эпической книги «Черновики» американской поэтессы Рэйчел ДюПлесси, над которой она работала более 20 лет.
«Черновики» — основная поэтическая работа ДюПлесси, она публиковалась с 1986 по 2012 год и состоит из 114 частей. Это современный эпос, одновременно многоголосый и личный, переплетение памяти, критики, политики, языка в напряжении между предварительностью и завершенностью, неопределенностью и точностью, письмом и переписыванием.
В Америке ДюПлесси известна не только как поэтесса, но и как оригинальная эссеистка и феминистская исследовательница. В своих работах она изучает вопросы гендера, расы и религиозной культуры, исследует письмо как феминистскую практику и показывает на примерах Паунда, Элиота, Зукофски, Олсона и Крили, что такое патриархальная поэзия.
Вопросы подготовили Кирилл Азерный и Руслан Комадей, перевод Лизы Хереш.
— Прежде всего я хочу спросить вас о русскоязычной поэзии. Учитывая, что мы обсуждали выход вашей книги в российском издательстве «Полифем», каковы ваши отношения с этой литературной традицией? Поэзией XX века, поэзией, написанной раньше или позже? Меня интересует, есть ли она в вашем литературном бэкграунде в контексте влияний, взаимоотношений и более широкой картины.
— Надо сказать, что я не читаю по-русски, и мне приходится прикладывать усилия, чтобы понять поэтические тексты при помощи перевода. Но я читала Пушкина, Мандельштама и других поэтов, восхитивших меня. Однако есть один поэтический текст и конкретный пример взаимодействия с поэтом, который поразил меня. Я говорю об Анне Ахматовой и ее предисловии к «Реквиему»: удивительная работа — где она пишет, что ее вдохновила незнакомая женщина, с которой они встретились в ужасной толпе, в очереди перед стенами тюрьмы, где ее близкие находились в период сталинского террора. Та женщина спросила Ахматову, сможет ли она описать всё это (меня очень интересует слово «описать» (describe), я не знаю, какое слово используется в русскоязычном оригинале), и Ахматова ответила, что может.
Я оцениваю это как центральную поэтическую обязанность, ответственность — Ахматова, поэтесса, стоящая в очереди с другими женщинами, придавлена этими ужасными событиями. Однако она ищет не власти как таковой, а слов — высказывания через язык, протеста против происходящего, принятия сложности чувств и памяти.
Призыв к аналитическому поэтическому расследованию или вдумчивому, медитативному освобождению очень важен для меня. Ахматова не единственная поэтесса, которая предпринимала такие попытки, но это предисловие всё еще поражает меня. Кирилл, а какое слово используется в русском языке?

— Насколько я помню, «описать». Или так: «Вы сможете рассказать эту историю остальным?»
— Да, спасибо! Я не знаю русского языка, поэтому спрашиваю обычно: вы сможете рассказать это (can you tell this)? Показать? Сохранить это мгновение для нас, чтобы мы могли изучить это и понять? Это то, что я думаю о своей поэзии — о «Черновиках» в частности. Мы живем в настоящем и ничего не можем с этим сделать. Мы помещены туда, где мы находимся. Как мы можем это описать поэтически? Я рассматриваю поэтические средства, формальные, языковые, для того, чтобы подчеркнуть все вышеописанные условия как значимые, интересные. Чтобы материальность стала серьезной, чтобы история была значимой, а не просто красивой побрякушкой. Я не думаю о поэзии как об исключительно лирической материи; она — ответ на общественные, космогонические, духовные и исторические версии реального. Можешь ли ты описать это, рассказать об этом? Поэтому я говорю о себе: у меня не только лирические или поэтические эмоции, у меня есть и социальные эмоции.
— Это прекрасно. Я бы предположил, что лирические и поэтические эмоции укреплены в социальном. Говоря о социальных связях в литературе, можете ли вы рассказать о ваших многочисленных коллаборациях и работе с переводами ваших текстов на русский язык?
— Работа с переводчиками — одна из самых восхитительных вещей, которую может подарить поэзия. Приходится быть ответственной за работу переводчиков. Мне повезло, и я поработала с прекрасными переводчиками моих стихов на французский и итальянский, и потом мне посчастливилось работать с Александром Улановым, иногда лично, иногда по почте. Все эти переводчики подготовили книги на основе моих «Черновиков». Во всех случаях я была обязана доверять человеку, который переводит мой текст, особенно в случае с французским переводчиком, который это мне буквально и сказал.
Переводчик или переводчица создает новый текст на основе моего. Надо нести ответственность за слова, которые он или она выбирает для перевода, и понимать причины этого выбора. Надо разбираться в этих вариантах, чтобы быть полезной для переводчика, предлагая ему слова на русском языке (в случае русского перевода). Тогда переводы становятся интерпретациями, версиями оригинального текста. Это очень близкие вариации, близкие варианты чтения, практически копии. И, конечно, при этом ты пытаешься добиться аккуратности в переводе. Мы много работали конкретно над этим. Но у меня нет никакой возможности проверить результат самостоятельно, только довериться Александру — что я и сделала.
Есть много черт, важных в переводе — аккуратность, точность понимания исторической специфики, параллелизмы (некоторые идиомы перевести просто невозможно). Например, я предлагала своим студентам из Чили, увлекающимся переводами, перевести на испанский английскую идиому, и они были поражены невозможностью сделать это через дословный перевод. Или, например, тон — в поэзии смена тона очень важна.
Но самая интересная задача, с которой я столкнулась, — в романских языках есть тенденция к обобщению. Как будто ты хочешь сделать свое высказывание универсальным и подходящим всем. Поэтому переводчики часто выбирают как бы общие слова, а не странные и специфичные, которым отдаю предпочтение я в своем американском английском. Так что мне нужно было отлавливать эти тенденции во всех языках, в которых я хоть как-то разбираюсь, и исправлять это: если я использую специфичные слова, я не хочу, чтобы в переводах они это свойство теряли. Это стало странным открытием.
Это тоже к вопросу о тоне, о состоянии американской поэзии, особенно экспериментальной, которая сейчас почти всегда многоязыковая, гетероглоссальная, как сказал бы Бахтин.
Мои тексты состоят из изменений тона и настроения, я меняю регистры, мои поэмы называли изменяющимися изнутри. Они не двигаются только в одном направлении (хотя некоторые двигаются). И переводчики, следующие за подобными изменениями, как будто корректируют мои тексты, потому что они не привыкли видеть в этих характеристиках ценность. Они ожидают поэзию, которая протекает в одном режиме, жанре, которая имеет одно монологическое измерение. А моя поэзия абсолютно не такая!
* * *
Написанные вены интрузии камней
блуждают
по непереведённым скалам.Я то вдруг наполняюсь, то опустошаюсь.
Теперь мёртвые смеют подойти ближе.
Всё записано,
ничто не может насытить их,каждый день тяжёлая булка вульвы.
Ты готов
спуститься
к воде?То, что нельзя сказать,
будет выплакано.Мы проживаем маленький клочок, он действительно
движется
к скорбималенькая сирень в листве
не цветение
белое оперение, цветение.Перевод Анастасии Бабичевой
— Но это само по себе тоже обобщение?
— Всё так. У поэзии, в том числе моей, конечно, свой режим существования. Много современных поэтов интенсивно критикуют этот самый режим. Но это всё еще является поэзией.
— Но это же как инвентарь! Поэзия, особенно русскоязычная, где рифма всё еще присутствует как легитимная форма проявления поэтического, принимает все эти достижения как должное.
— Можно добавить? Я обожаю рифму, я часто использую ее в своих текстах, особенно если это неточная рифма. Я думаю, что это потрясающая риторическая тактика — и я так думаю обо всех звуковых качествах поэтических текстов. Я не против рифмы, я всеми руками за! Но я против регуляризации, когда рифма становится не стратегией, а сформулированным правилом постоянного следования. И так же я отношусь ко всем риторическим приемам в поэзии, которые снова и снова повторяются. Нужно понимать, когда надо остановиться. Как в случае с Гинзбергом — анафоры в какой-то момент прекращаются. Нужно понимать, на какой шкале ты находишься и чего хочешь достигнуть. Ох, как-то я сама не ожидала, что сейчас возьмусь защищать рифму с таким жаром. Но это неповествовательная форма, что объединяет элементы совместно.
Две цыганки
Цыганки две в лесу живут,
гитары вдалеке.
Пусть погадают мне они
по звёздам и руке —хотелось мне. И я пошла
через листву тропой.
Деревья здесь взмывали вверх,
закрыв луну собой.Сказали мне, к ним человек
из-за холма пришел,
У нас с ним общая судьба.
Не обещали зол.И был на каждый мой вопрос
ответ тотчас готов.
Огонь так дико танцевал,
спасал от холодов.И по тропе в обратный путь,
сквозь папоротник прочь.
И листья гнулись под росой,
потяжелев за ночь.Уж бледно утро, слаб мой шаг,
от ветра зябко мне.
Ни огонька. И я теперь
несчастнее вдвойне.От слов услышанных пуста,
себя я потеряла.
Тень поперек моей легла,
я обернулась, зарыдала.Мужчина рядом был. Красив,
пот тёмный в волосах,
он бел, как я сама, лицом,
чёрный янтарь — глаза.Он мне сказал: «Ты быстро шла».
«Я за тобой бежал».
«Останься навсегда со мной».
И мою руку взял.И по тропе вдвоём пошли,
ещё моя слеза
не высохла. Пусть падает,
как на листву роса.И если он стремится в путь,
я не могу мешать.
мой шаг назад ведёт в начало,
кольцо замкнув опять.Дорога-лента вдаль ведёт,
судьбу мою связав,
мне не давая прочь взглянуть,
меня в рабыни взяв.Сказал мне тот, что близ меня
везде, судьбу мою
он под свою опеку взял,
а я ни с чем стою.Перевод Анастасии Бабичевой
— Мне на ум приходит мысль о том, что рифма в устной культуре отсылает к практике заучивания и запоминания текстов. Это подводит к следующему вопросу: как организованы ваши тексты? У читателей может сложиться впечатление, что ваши тексты подталкивают к разным видам запоминания, фокусировки памяти и не имеют линейного нарратива и линейной организации.
— Забавно, потому что разговор о линейном и нелинейном как категориях уже сам по себе достаточно сложен. Я не против нарратива, но я против тотального нарратива; в моей поэзии я использую множество средств построения повествования, но мой метод всегда намеренно уже, чем та или иная нарративная парадигма (вроде «любовной лирики»). Я беру отовсюду — извините, что направила ответ в другое русло, но это наша первая встреча! Нарратив используется мной точечно; затем он может соединиться с другим. Любая история в моей поэзии скорее может быть представлена изобразительно.
Например, я никогда не использую одну сюжетную линию, если сравнивать мои работы с длинными текстами других авторок (так вышло, что в этом поле работают одни женщины): «Происхождение Алетт» Элис Нотли — блистательный текст; или Бернадетт Майер с ее «Днем в середине зимы» (Midwinter Day), рассматривающая день как коллекцию повествовательных сгустков и приемов; день, будто прожитый в католическом монастыре и отмеренный по часам молитв. В «Черновиках» нет единого героя. Наоборот, я избегаю употребления «я» в тексте, оно изредка встречается в текстах помимо «Черновиков», и в общем я не поклонница использования этого местоимения. Я не говорю о себе. Можно сказать, что в поэзии Энн Уолдман или Лин Хеджинян есть героиня — женщина, что собирает и упорядочивает их поэтические труды. Это едва ли возможно в моей жизни. В работах Уолдман всякий фрагмент представляет собой повествование, как в поэзии пуантилизма, точечной живописи — в каждой такой картине любая точка обладает собственной красотой, и затем их ассамбляж разворачивается во времени, огибает время ее жизни год за годом, чтобы объединиться. Однако и у нее нет единой линии или сюжетной арки — их множество.
«Черновики» не таковы — это некая смесь. Во-первых, с самого начала они занимаются проблемой репрезентации. В этом смысле мы с Хеджинян занимаемся схожей проблемой, но решаем ее по-разному.
В первом томе «Черновиков» я стараюсь найти способы производства значений между «да» и «нет» (N and Y), чтобы обнаружить некоторую третью экзистенцию, найти то самое «оно» (it), что обозревает мир.
Как его представить? Что значит репрезентация? Как совместить всё и всех, кого я представляю, включая младенца? В чем репрезентативно изображение? Я сейчас говорю об одной тупой штуке, о мраморной скульптуре, изображающей рожок от мороженого, о штуках вроде поп-арта. Она-то меня и заземлила, позволив начать писать текст. Никакого притворства, никакого изображения того, что всё вроде бы нормально. Поэзия — фабрикация, изготовление (сошлемся на латинские корни), но я не хочу притворства. Это стандарт аутентичности, который я стараюсь выдерживать, который не пытается всех удовлетворить, как часто бывает в современном искусстве. Поэтому я использую слово «объективизм», отсылая к американской поэтической традиции.
Еще одна важная черта моей работы — совмещение этического и эстетического. Этос тоже формирует нарратив моих поэтических текстов; поэзия находится под ним.
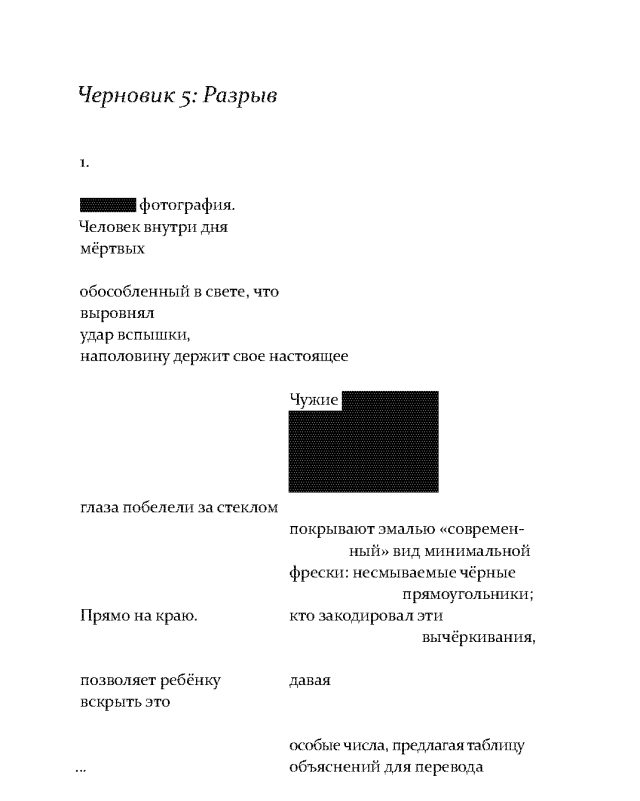
— Я вчера разговаривал со своим другом из Канады о вас и вашей поэзии, о том, как она не заставляет нас читать тексты определенным образом. Это оставляет много свободы читателю: линейная опция есть, но она не единственная. Нам необязательно ограничивать себя исключительно ей. Еще мне кажется невероятным, что эта свобода и многообразие опций даны мне безвозмездно. Так что мой следующий вопрос будет касаться медиумов: бумаги, что позволяет прочерчивать различные нарративы. В устной традиции это невозможно: там мы имеем дело только с линейностью и памятью. Расскажите о вашем опыте с коллажными экспериментами.
— Есть много связей между поэзией и коллажами, прежде всего они аналогичны. Я делала коллажи из слов, но я хочу поговорить о коллаже как об аналогии поэзии. Важнее всего здесь сопоставление единиц, но я не работаю с футуристическими техниками, как Брюс Эндрюс, составляющий коллажи из фраз, я видела его визуальные работы. Я же больше заинтересована в поэтическом синтаксисе, в порядке слов в поэзии. И хотя в коллаже мы как будто не имеем дела с синтаксисом или его нужно изобретать заново (думаю, это не так), обычно мы подчеркиваем важность иных паттернов и структур, иных иерархий. В конце поэтического текста, даже если он «побросал» нас из стороны в сторону в течение его чтения, мы тоже будто познакомились с коллажем, не так ли?
Сопоставление коллажа и нелинейного нарратива кажется мне продуктивным. К тому же коллаж состоит из уже использованного материала. Билеты, материалы, сумки — у этих вещей, как бы сказал Беньямин, сохраняется аура. Они уже были использованы для других целей, и ты берешь их, изолируя в самих себе, позволяя им говорить за себя. Они еще и становятся художественными объектами, которыми изначально не являлись. Коллаж для меня — арте повера (бедное искусство и одноименное итальянское движение) из-за инструментов, использованных при изготовлении коллажей. Ты берешь использованное, спасая его и уважая его ауру.
Я использую много самоцитат, коллажируя их, помещая их в абсолютно другой контекст спустя 10 или 20 текстов — создавая ощущение дежавю. Это создает ощущение частичного воспоминания, практически полного, но неточного.
Это охота, проводимая читателем. Вот он, мотив памяти, который я стараюсь построить. А два куска бумаги, сложенные вместе, — это те же два слова в поэтическом тексте рядом. Без этого нет стихотворения.

— Это связано и с комбинаторной функцией английского языка, которую мы обсуждали до интервью. В этом языке слова, помещенные вместе, сразу будто бы прилипают друг к другу. В русском языке такого нет из-за особенностей грамматики. А в английском грамматика будто догоняет синтаксис.
— Очень хорошо сказано! В изучении сознания есть термин для того, как ассоциации рождают связи. Когда мы говорим «железнодорожная станция» или «юная девушка», в нашей голове это сразу связывается, рождается сюжет. Что с ней? Она кого-то ждет? Вдруг она упадет на рельсы, как мадам Бовари? Анна Каренина? Да, точно, Каренина. Бедные женщины… Ладно, вернемся к интервью.
— Что для вашей поэтики значит феминизм?
— А у нас есть время? А то мы уже столько говорим, а вопрос очень серьезный и важный, я даже не успею сказать всё, что могла бы, если бы было больше времени. Во-первых, я писала работы как академическая исследовательница о культурном дискурсе и критике. Это же я делала как поэтесса. Но я не хочу, чтобы моя поэзия просто повторяла мои убеждения. И я не хочу убеждать с помощью поэзии других, говорить, как хороши мои идеи. Это исключено из моей поэзии, хотя другие так делают — иногда получается отлично, иногда… ну вы понимаете. Но это не в моих правилах.
В моих правилах — замечать, что в культуре теперь вопросы гендера адресуются только женщинам, будто мужчины не имеют его вовсе, как и сексуальности, кстати. В поэзии, романах и опере женщинам всё еще отведена очень консервативная позиция касательно их субъектности. То же касается репрезентации. Женщин все любят, но их же считают исключительно идеализированными красавицами, лишают агентности, замалчивают случаи трансгрессии.
Вообще в европейской традиции оперы женщины обычно оказываются заложницами любви или политических режимов, что как будто подводит их к необходимости умереть: такое часто происходит в ариях.
Но за пределами аллегорий и поэтических тропов, окружающих женственность в поэзии, возникает действительно много трудностей для поэтесс и писательниц, для реальных людей, живущих в историческом моменте, агенток литературного поля. При этом они обладают агентностью в собственном производстве текстов, но во многих прочитанных ими книгах, просмотренных фильмах или спектаклях женщины — лишь культурные артефакты. Они аллегории, неудачные развязки сюжетов, тропы. Феминизму важно осознать это и избавиться от этого. Необходима критика этого, хотя многие люди не хотят осуществлять такую критику. Я принимаю это, но меня именно такая критика и интересует. Не в том смысле, что я хочу критику, которая укажет женщинам, что им делать, — скорее выработает иное отношение к продуктам культуры.
Есть три центральные позиции в феминистской дискуссии, не сильно отличающиеся в восприятии мужчинами и женщинами, — это такие центральные гуманистические тезисы.
- Женщины должны быть равными с мужчинами. Разница заключается в репродуктивном аспекте.
- Женщины и мужчины обладают разными взглядами и разными перспективами. Они должны уважаться за это многообразие и разницу.
- Мы не должны говорить о гендерной бинарности вообще, в отличие от квирности, андрогинности и других смешений гендерных бинарностей с помощью одежды, поведения, проявлений сексуальности и других выборов, например смены гендерной идентичности.

Единственная проблема с квирностью для меня — применение ее к историческому контексту, где большинство людей гендерно разделены. Сейчас этот выбор хотя бы возможен, но историческое и антропологическое измерение гендерного деления никуда не исчезнет, если сегодня мы объявим себя квирами (что мне, кстати, радостно делать). В последние 2000 лет литература не была настолько квирной. Перед тем как феминизм улучшит жизни всех и поместит всех в утопию, мы должны обратить внимание на исторические условия, на воспитание писательниц, на специфику разных стран, на то, что некоторых женщин не учат грамотности и не учат читать.
Женщины не единственная категория, но это категория, на которую действительно стоит смотреть. В таком случае мы открываем забытые имена, женщин, которых считали неадекватными, тупыми, которых не читали и не ценили. Я участвовала в этой фазе открытия — сначала просто не верится, что их действительно все забыли. Можно найти и скучных авторов тоже, но их и так много, открытых и известных. Затем надо пересмотреть, провести ревизию их связи с литературой. Затем, наконец, канон меняется. Ура! Можно изменять канон самостоятельно, вносить в него категорию расы и класса, новые места. В этом поле можно провести действительно интереснейшую работу, критическую и аналитическую.
Как феминизм повлиял на мою поэтику? Я женщина, и я пишу длинные стихотворения, что было табуировано какое-то время, но я всегда хотела писать именно большие вещи. Не для всех женщин-писательниц их женскость является актуальной темой, но для меня однозначно да, и это должно так восприниматься в моем случае.
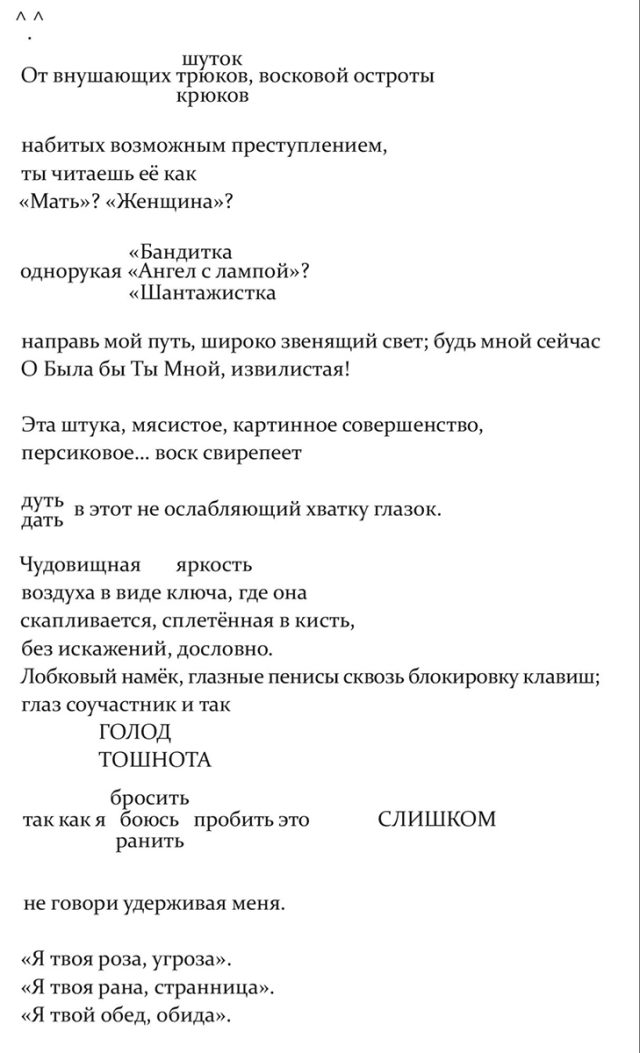
— Да, идентичность будто обязывает связывать себя с другим. Но как мне связать себя с женщинами, если я не она? Я бы хотел понять это, в том числе переживая истории женщин моей семьи, мамы и бабушки. Однако какая-то дистанция всегда присутствует. Я из России, я вырос на западной культуре, сейчас я в Израиле, куда прибыл чуть больше года назад, и я постоянно ощущаю себя в движении и переходе (transition). Меня интересует момент, когда дистанция может измениться. Где мы можем начать?
— Это огромный вопрос. Видение женщин как абсолютно иных существ, имеющих меньше прав (некоторые религии рассматривают женщин только как комплементарных существ, помогающих мужчинам, — к чему я отношусь, конечно, с иронией), — тоже часть системы, где категории мужского и женского еще не перестали существовать. Гендер — идея, которая находится в фундаменте стольких вещей, что мы часто не можем помыслить что-то без него. Это идея первоначала. Например, в ультраправом иудаизме и исламе происходит подавление женских прав, вроде необходимости носить определенную одежду. Женщины могут рассказать собственные истории, но и мужчины могут рассказать их. Я бы хотела оставить это так: мне интересно послушать вас, Кирилл, хотя публичный разговор в зуме едва ли подходит для этого. Но у нас остались еще вопросы.
Вы спросили меня, почему мой том «Черновиков» называется «Изумленн:ая» (Be Astonished). Это отрывок из заголовка книги, которую я писала в соавторстве: We Who Love to Be Astonished: Experimental Women’s Writing and Performance Poetics («Мы, любящие изумляться: экспериментальное женское письмо и перформативная поэтика»). Она вышла в 2002 году в Алабаме, и ясно, что концепт изумления для нее важен. Это идея погружения в реальность с интересом и открытыми глазами. Название отсылает ко многим поэтессам и писательницам, представительницам экспериментального письма, которые написали эссе, вошедшие в эту книгу. Ее издатели рассказали мне, что моя работа тоже должна была быть включена в этот сборник, но по каким-то причинам этого не сложилось, так что меня попросили написать работу специально для антологии.
Я решила, что не хочу писать просто эссе, но хочу создать эссе-стихотворение. Я написала экспериментальное эссе-стихотворение с помощью моих идей по поводу представленных в антологии женщин и их позиций. Это не комментарий исключительно к текстам Хеджинян, но эссе обо всей книге. Такая аллюзивная сюрреалистическая поэма об аспектах и двойственности гендера и писательства — всё, что я переживала сама. Так что я не взяла это непосредственно у Хеджинян — это фраза, которую я использовала, говоря о женщинах-поэтессах. Но параллельный выпуск наших книг в «Полифеме» захватывает меня. Я бы добавила, что французская исследовательница Элен Ажи написала статью о наших стихах, назвав наши тексты недогматическими. Советую эту статью. Она написана на английском языке в 2017 году. Но я пессимистичнее, чем Лин Хеджинян. Она говорила о себе как о человеке, не видящем трагическую часть жизни, и это очень интересное замечание.

С Брайаном Кимом Стефансом мы работали в контексте инициативы, где разные поэты писали стихи друг за другом, откликаясь на темы, связанные с гендером и сексуальностью. Это было в 1999 году. Я не большая поклонница темы перевода в рамках одного языка, поэтому я старалась произвести сдвиг семантический. И Брайану пришлось с этим смириться, я знаю, что у него были большие трудности, сначала он создал скучный вариант, а затем переделал его в очень прямой, эстетически насыщенный. Он взял все слова, которые я использую, поставил их в алфавитном порядке, разложил на буквы и сделал анимированную картину. Он назвал ее так: Длинная Мясная Анимационная Программа с Сюжетным Ходом в виде Передового Феминистского Лайма. Это всё еще можно найти в сети.
Позже у него спросили, не является ли то, как он поступил с моими словами, искажением и снижением значимости феминистского посыла, который был мне важен? Думаю, это скорее побочной эффект. Апроприация, которую он произвел в отношении моих стихов, — нормальная литературная практика. Кража, повторное использование, заимствование, плагиат — это всё происходит и будет происходить, и я сама это делала на протяжении своей поэтической карьеры. Так что он просто прибегнул к распространенной практике.
Это было интересно — быть апроприированной кем-то. Я впервые почувствовала, каково это. Проблема тут появляется, если ты не называешь имя того, у кого крадешь. Как в случае с белыми музыкантами, не указывающими источники блюза, который они исполняют. Или Эзрой Паундом, использующим женские идеи, например, Мины Лой, но не говорящим об этом. Вот в чем проблема. А Брайан взял то, что я сделала, и мне пришлось принять это. Проблема появляется там, где нет указания на автора и нет дискуссии. А ведь именно так всё время и происходит! Так что критика стихотворения Брайана справедлива, но она не является определяющей для всей дискуссии. Почему мы меняем что-то? В чем эффект этого изменения?
А вот когда ты берешь женскую работу и не говоришь об этом, ты оказываешься в ситуации Т. Элиота, который использовал в «Бесплодной земле» монолог женщины, работающей на него. Ее звали Элен Келленд, она была служанкой. Он взял ее речь, ее цитаты, истории про аборт и семейную жизнь и вставил в «Бесплодную землю». Это было открыто много лет спустя и вставлено в качестве добавления, сноски, когда разные варианты редактуры «Бесплодной земли» появились в библиотеке Нью-Йорка. Вот так выглядит апроприация! Ну да, я взял какие-то ее слова — но это же целая часть «Бесплодной земли»!
— Они хотели изобрести постмодернизм, но ушли слишком далеко. Я вообще думаю, что апроприировать что-то и никого не задеть невозможно. Если мы говорим о создании, в этом есть что-то религиозное и духовное.
— Да, духовное. Нам стоит остановиться! Но и говорить больше, писать письма. Буду рада увидеться снова.