«Платон говорит, что мы одновременно смертны и бессмертны — и он прав»: интервью с философом Романом Светловым о том, чему сегодня можно научиться у античных мыслителей
Чем современность похожа на переломную эпоху I века до н. э и I века н. э., почему платонизмом в наше время увлекаются даже бизнесмены и как собрать себя с помощью античной философии? Эти и другие вопросы «Нож» обсудил с Романом Светловым — профессором, философом-антиковедом и сооснователем Санкт-Петербургского Платоновского философского общества.
— Наше интервью отчасти автобиографическое, поэтому давайте начнем с ваших самых ранних воспоминаний: как вы впервые увлеклись Античностью?
— Я хорошо помню, когда у меня что-то словно щелкнуло в голове. Это была осень 1969 года. Мне было шесть лет, я пошел в первый класс и той осенью осенью отец привел меня на фильм Рудольфа Мате «Триста спартанцев». Это американский пеплум 1962 года, но у нас его показывали в 1969-м. Тогда то я и заинтересовался Античностью. Отец мой, Светлов Виктор Георгиевич, был, как говорили в советское время, сознательным рабочим, имел огромную библиотеку, которую я храню до сих пор. Он приручил меня к чтению, поэтому с самого детства я искал книги, оформлял вместе с ним подписки, выстаивал во всевозможных очередях. В первом классе я прочел «Легенды и мифы Древней Греции» Куна, потом стал читать Геродота, чтобы узнать, что все-таки на самом деле случилось с тремястами спартанцами, и «Илиаду».
Философией в школьном возрасте не очень интересовался. В первую очередь меня интересовала античная история. Мне очень хотелось стать археологом, поэтому я хотел поступить на кафедру археологии, но там был совсем зашкаливающий конкурс. Поэтому я попробовал поступить в ЛГУ на кафедру истории Греции и Рима к Эдуарду Давидовичу Фролову. Но не поступил.
— Не сдали экзамен?
— Да, получил за сочинение двойку.

— Тему сочинения помните?
— Нет, из-за стресса не запомнил. Но поскольку я закончил школу в 17 лет, до армии у меня был год, и я работал техником в Геологоразведочном институте на Литейном — том самом, который в Западной Сибири в 70-х нефть открыл. Долго думал, решил поступать на философский, что в следующем году и сделал (приказ о зачислении вышел на сутки раньше повестки из военкомата). Учился там с 1981-го по 1986 год.
— Кто из учителей больше всего повлиял на вас?
— Как я уже сказал, во многом меня воспитал и привил любовь к истории отец. Школьный учитель истории Николай Николаевич тоже этому поспособствовал. Что касается университетских лет, по многим из нас прошелся, как на танке (в хорошем смысле!), Евгений Семенович Линьков. Его годичный курс по немецкой классической философии был фундаментальным испытанием на прочность. При этом человек он был очень открытый, доброжелательный.
Курс по античной философии, который в советское время обычно заканчивался Аристотелем, в 1982 году нам читала Комарова Вера Яковлевна. Возрождение и Новое время — Константин Андреевич Сергеев, профессор великой кафедры истории философии 90-х. Про неоплатоников и Средние века он тоже рассказывал. Очень интересным мыслителем был, увлекался Хайдеггером.
С кафедры социальной философии меня многому научил Константин Семенович Пигров — умнейший, тонкий преподаватель, умеющий развивать в студентах творческое начало. «Моей» же кафедрой — истории философии — заведовал Юрий Валерьянович Перов, великолепный знаток истории мысли, социальной мысли в том числе. Он очень повлиял на меня с общей жизненной точки зрения.
Читайте также
Боги, молнии и тайная Германия Мартина Хайдеггера
Решительное экзистирование Мартина Хайдеггера: как перестать беспокоиться и начать умирать?
— Можете вспомнить что-нибудь из лекций Линькова?
— Он хорошо характеризует ту эпоху. Евгений Семенович был, что называется, свободомыслящим человеком, но время было еще не «горбачевское», поэтому говорил он так: «Если не будете знать Канта, получите тройку. Но если не будете знать Маркса, то двойку». Манера ведения занятий у него была занимательная: он ходил и равномерно позвякивал связкой ключей, будто совершая какой-то шаманский ритуал. Голос у него был как у Высоцкого, что еще больше завораживало слушателей. Казалось, вот оно, именно сейчас свершается что-то таинственное и мироустроительное!..
В то время еще можно было курить на занятиях — он курил исключительно «Беломорканал».
Его лекции были фундаментальным вызовом представлению о философии, разделяемому большинством современных философов (если не брать мыслителей гегелевского типа), а именно философии как некой описательной деятельности. Линьков же, вопреки всему, стремился к аналитике, к жесткому аналитическому подходу во всем, пусть это и была аналитика спекулятивно-гегелевского характера, а не то, что мы сейчас понимаем под аналитической мыслью.
— Каких иностранных авторов вам удавалось тогда читать?
— Были классические тексты, например, книга М. А. Кисселя о Сартре. Из-за нее все увлекались Сартром и то, что было издано на русском, читали. Наш факультет формально был идеологическим, студенты делились на две группы: философы и научные коммунисты. Я был философ. Зато у нас имелись преференции в Горьковской библиотеке — например, мы могли спокойно брать Ницше.
В ИНИОНе крупные специалисты составляли реферативные сборники по наиболее современным публикациям. Всё, что могли достать, читали. По какой-то едва различимой копии книги Пиамы Павловны Гайденко «Экзистенциализм и проблема культуры: критика философии М. Хайдеггера» знакомились с Хайдеггером. Про постмодерн мы ничего не знали. Конечно, еще в школе я читал роман Робера Мерля «За стеклом» про студенческий бунт 68-го в Сорбонне. Но Деррида и Делеза в студенческие годы не знал. О них начали говорить только во второй половине 1980-х.
— Деррида приезжал потом.
— Да, аудитория была забита, слушателей набралось человек 150. Деррида действительно шоумен — опять же, не в ругательном смысле слова. Насколько помню, вроде бы Сергей Курехин стоял в аудитории и держал осветительный прибор. Встреча была интересная, но похожая на перформанс.
— Ваша диссертация посвящена неоплатонизму. Как вы пришли к этой исследовательской теме?
— Признаюсь, когда я выбирал эту тему, я не был каким-то большим знатоком неоплатонизма. Но он меня жутко интересовал, потому что был мало изучен. Были какие-то отдельные переводы Плотина и Прокла, все читали «Историю античной эстетики» Лосева, особенно про поздний эллинизм и последние века Античности. Кое-что можно было найти в дореволюционных изданиях в библиотеках. В остальном неоплатонизм оставался еще неоткрытой темой.
Во-вторых, это было начало девяностых, тогда изменилось отношение к христианству и, соответственно, к христианской интеллектуальной традиции и ее историческому контексту. Частью этого контекста был Плотин и неоплатонизм. Всё это как-то соединилось вместе. Ну а в формулировке темы помог Константин Андреевич Сергеев, который был моим научным консультантом.
— Насколько оправдан термин «неоплатоники» — ведь в Античности его не существовало?
— Мы живем в постструктуралистскую эпоху, борьба с терминологическим фетишизмом является в ней модным трендом. Постоянно деконструируются целые ряды концептов, посредством которых описывалось прошлое, и неоплатонизм вполне может оказаться очередным таким концептом.
Впервые это понятие встречается в XVIII веке у британского мыслителя Якоба Брюкера — правда, он так называл тех, кого сейчас мы называем неопифагорейцами. Затем Шлейермахер провел различие между Платоном и его позднеантичными интерпретаторами. И где-то с середины XIX века термин «неоплатонизм» закрепился у немцев.
Конечно, это совсем не античное понятие, но, на мой взгляд, оно достаточно удачно схватывает определенный период античного платонизма. Мы видим Платона и Древнюю Академию, затем скептическую Академию, далее эклектический средний платонизм и, наконец, неоплатонизм, когда платоновские тексты постепенно начинают восприниматься как боговдохновенные.
Эта тенденция прослеживается еще у Антиоха Аскалонского (I век до н. э.). Но только Плотин, а потом Ямвлих (главным неоплатоником с точки зрения формирования специфического дискурса неоплатонизма был именно Ямвлих, а не Плотин) стали рассматривать тексты Платона как учебники жизни. Диалоги Платона становятся текстами, позволяющими читателям собирать себя перед ликом Единого и многочисленных античных божественных сущностей, объектами фукианской практики себя. Само чтение этих текстов становится практикой себя.
— Неоплатонизм — это всё еще античная философия или она принадлежит уже последующей эпохе?
— Безусловно, античная. Плотин в ней главная фигура, с которого началось чтение платоновских текстов как практика себя. А дальше, начиная с Ямвлиха, эта практика уже дополняется разного рода белой магией и прочим.
— Раз мы заговорили о поздней Античности, как вы относитесь к фигуре Юлиана Отступника?
— Страшно интересная фигура! Еще в аспирантской молодости я прочел роман Мережковского, посвященный Юлиану, а в начале 90-х и Гора Видала. Это харизматический, творческий и вместе с тем истерический человек — поскольку человек творческий вполне может быть истерическим. Фанатичный утопист, который не просто формировал утопию, но пытался воплотить ее в жизнь здесь и сейчас, уверенный, что им движут боги. В своих письмах он буквально так и пишет: всё благое, что я делаю, проистекает не от меня, а от богов. Такой человек не мог не надорваться — и он надорвался. Понятно, что его убили, но в каком-то смысле его кончина напоминает смерть Александра Македонского. Они вообще похожи друг на друга.
— В чем основное отличие эпохи неоплатоников от предшествующей?
— О самом фундаментальном я уже сказал: поменялось отношение к тексту Платона. Для третьего поколения неоплатоников это уже боговдохновенный текст, а сам Платон становится θεῖος, божественным. Из платоновских диалогов, Халдейских оракулов и орфических поэм складывается Писание неоплатоников.
Стиль мышления приобретает экзегетический, комментаторский характер. Отныне суть бытия ищется не в интеллектуальном поиске, не в беседе и не в аристотелевской βίος θεωρητικός. Она уже записана, а наша задача — только понять ее. Доминирование этого стиля открывает дорогу к средневековой философии.
Взгляните на платоновского Сократа. Конечно, он аскет, но аскет специфический. Он упражняется прежде всего в философии. Мыслители же наподобие Плотина или Юлиана совсем другого типа. Это Античность, но уже средневековая.
— То есть эта эпоха находится на стыке времен.
— Видите, мы с вами говорим «на стыке», потому что привыкли разделять всю историю на три периода: Античность, Средние Века и Новое время. Если мы переносим эти периоды на историю Китая, Индии или Африки, это критикуется как европоцентризм. Точно так же наложение этой модели на позднюю Античность можно назвать модерноцентризмом. Ведь на самом деле ситуация гораздо сложнее. Быть может, когда-нибудь нам удастся найти более удачные хронологические рамки и описывающие их термины.
— В своих лекциях вы отмечаете параллели между современностью и переломной эпохой I века до н. э и I века н. э. В чем именно заключаются сходства, на ваш взгляд?
— Об этом можно долго рассуждать, я постараюсь выделить два момента. Во-первых, наша эпоха переломная, потому что эпоха модерна, продолжившаяся постмодерном (считаю его продолжением модерна), уже закончилась. Рождается что-то совершенно новое. Это хорошо видно по политической сфере — мы сейчас уходим от европоцентризма.
В античности в обозначенные века на территории Римской империи появляются новые народы, зачастую посредством диффузии через ее границы. То же самое происходит сейчас и в нашей ойкумене. Я говорю даже не о многочисленных переселенцах и мигрантах в Европе, а об актуализации для нас происходящего в Бразилии, Южной Африке, Иране, Индии, Китае. Процессы, протекающие сегодня в этих областях, становятся всё более важны для людей, живущих в других регионах.
Во-вторых, фундаментально меняется дискурс — это можно заметить уже по постмодерну. В методологии теперь «всё идет в дело» — своего рода эклектизм как стиль мышления. Для меня это не ругательное слово, потому что схожий эклектизм породил неоплатонизм и христианское богословие. Я не утверждаю, что сейчас родится какая-то новая религиозная философия, но эклектизм всегда что-то порождает — кто знает, какую форму он примет.
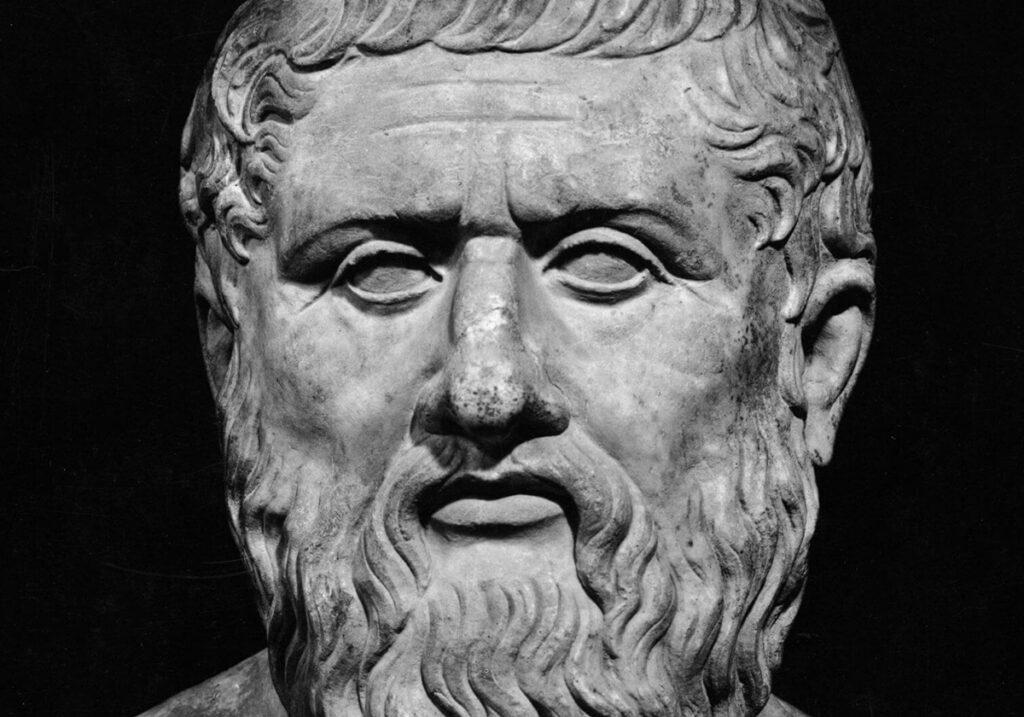
— В начале ХХI века огромную популярность обрели эллинистические философские школы. Ежегодно выходит множество книг формата «Как быть стоиком», «Как быть эпикурейцем», «Как быть перипатетиком» и т. д. Как вы считаете, с чем связан этот повышенный интерес к эллинистической философии?
— Думаю, интерес к эллинизму связан с тем, что оказались сбиты наши жизненные ориентиры. Современный человек со всем его поклонением успешности, эффективности и технологиям находится в подвешенном состоянии — он не понимает, как жить. За последние годы реальность очень сильно поменялась — взять хотя бы рождение цифровой реальности, которой не было еще совсем недавно. А чему учат эллинистические школы? Тому, как жить. Это в первую очередь моральная философия. Все остальные ее подразделения обслуживают этику.
Во-вторых, эллинистические школы были принципиально антиидеалистичны. Им было свойственно недоверие к идеализму и идеологиями. Это тоже вызывает интерес к ним в наше время.
Сегодня проводятся международные конференции по философской практике. С чем это связано? Полагаю, философы заново осознают следующий факт: философия в Античности претендовала на статус терапии. Потом этот статус был освоен христианским клиром. В XIX—ХХ веках его успешно присвоила себе психология: психотерапия и психоанализ. «Что-то у меня в жизни не так. Я неуспешен», — говорит сегодня себе человек и идет к психотерапевту. И психотерапевт делает из него комфортного для общества человека, не решая никакие внутренние проблемы и выступая наемный работником, обеспечивающим общественное спокойствие.
Пусть психотерапевты не обижаются, но это так: они занимаются в том числе тем, чем должны заниматься философы.
Сегодня философы начинают вспоминать, кем они были когда-то, и развивать практическое движение. На Западе это уже работает: там к философам за консультацией приходят люди, у которых трое детей, две машины, хорошая работа, им 40 лет — но чего-то не хватает. Им предлагают широкий ассортимент философских точек сборки, способов собрать себя. Одним оказывается интересен гегелевский, другим хайдеггеровский или платоновский вариант. И тогда у человека появляется смысл в жизни, который меняет его.
Даже в нашем платоновском движении есть коллеги от бизнеса, которым интересно собирать себя через платонизм. Кроме того, обучаясь мыслить философски, ты в состоянии видеть материальные перспективы, сознание становится более подвижным. Они приходят не ради этого, но такой побочный эффект имеется.
— Может ли платонизм быть практической философией сегодня?
— Мне кажется, да. Собственно, все тексты Платона о том, как выстраивать себя. Точно так же, как мы наращиваем мышцы, занимаясь определенными упражнениями, мы можем выстраивать свои дискурсивные и когнитивные способности, занимаясь диалогами Платона. Не чтением учебников о них, а именно работой с диалогами. Они имеют перформативный характер.
Конечно, Платон идеалист, но совсем не такой, каким его обычно представляют. Из его текстов на выходе могут быть самые разные результаты: у его ученика Спевсиппа — одна философия, у Ксенократа — другая, у Аристотеля третья. В скептической Академии Платон скептик, у неоплатоников догматик, указывающий на небеса. И сегодня ведь тоже Платона читают совершенно по-разному. Есть штраусианский подход, есть драматический, а порой, когда они скрещиваются, получается Платон-постмодернист.
— Могут ли коучи использовать платонизм для обучения успешности, как пытаются сегодня использовать стоицизм?
— Нет. Если мы с вами хотим заниматься философией и помочь людям разобраться с тем, как жить, в первую очередь следует забыть об успешности. Успешность — это фетиш и идеология современности, которая губит всё остальное. При чем здесь успешность, если, занимаясь философией, вы просто начинаете жить по-настоящему? Это не значит, что человек отправится в деревню пасти коров, почитывая на планшете Платона. Кем бы вы ни были, будь то бизнесмен, преподаватель, студент, математик или домохозяйка, с помощью философии вы обретете настоящую жизнь. Потому что мысль — это высшая форма жизни. Всё напрямую связано с ней.
— В одной из статей вы писали, что метод Сократа во многом скептический. Каким образом Платон сочетал этот скептицизм с познаваемостью идей?
— Прежде всего, Платон, в отличие от Аристотеля, не был догматическим мыслителем и доктринером. Конечно, без него не было бы философской рациональности. Однако внимательное чтение текстов Платона приводит нас к выводу, что даже если мы находим в них описание какой-либо онтологической или антропологической структуры, то за ее описанием всегда стоит что-то еще. И сам Платон понимает это и не воспринимает как недостаток своего текста.
Платоновская диалектика смотрит на предмет с разных сторон. Это одновременное рассмотрение предмета с разных точек зрения (а не снятие в неком определении) является неотъемлемой частью философского поиска. Поэтому идеи и существуют отдельно от вещей, и не существуют отдельно от них, единое едино и одновременно множественно, многое множественно и одновременно едино. Душа соткана из тождественного и иного, причем демиург всё это смешал, совершив определенное усилие. Эрот в «Пире» — дитя богатства и нужды, он богат и в то же время беден.
— Напоминает Гераклита.
— Платон действительно в каком-то смысле близок к нему. Говорят, он взял у Гераклита учение о становлении. А он не его взял, а собственно то, что мы сейчас называем диалектикой. Только она и позволяет схватить сущность вещей, потому что они таковы на самом деле. Платон говорит, что мы с вами одновременно смертны и бессмертны — и это так и есть.
Здесь не идет речи о каком-то противоречии, потому что не вводится некого внешнего критерия или обязательства непротиворечия. Это другой тип мышления, которое не является дефинитивным. Оно позволяет соединить сократовский поиск, элементы скептицизма и учение об идеях.
— Вы один из основателей и председатель Платоновского философского общества, основанного в 1993 году. Какие выступления и конференции, организованные в рамках этого общества, запомнились вам больше всего?
— Важное мероприятие было в Москве в сентябре 2012 года, прошедшее в РГГУ. Это была очень интересная, консолидирующая трехдневная конференция. Именно она легитимировала новые переводы Платона на русский язык. С тех пор мы издали уже четыре диалога, зимой или весной выйдет еще одна книга с двумя диалогами, скоро начнется работа над переводом «Тимея». Переводят самые разные специалисты — и питерские, и московские, и новосибирские.
Другая знаковая конференция прошла в СПбГУ в июне 2015 года. Нам тогда удалось привезти представителей трех способов чтения Платона. Вообще существует четыре наиболее значимых в мире подхода: эволюционистский (сначала Платон был сократиком, потом пришел к теории идей и т. д.); драматический, рассматривающий Платона в первую очередь как литератора; аналитический; и тюбингенский, предполагающий эзотерическое учение Платона. Отдельная тема — институциональный подход, отстаиваемый Ю. А. Шичалиным.
Так вот, к нам приехал американский представитель драматического подхода Джеральд Пресс, мой старший товарищ из Канады Томас Робинсон, принадлежащий к эволюционистам, и тюбингенец Томаш Cлезак. Мы столкнули их троих в одной аудитории, она была битком забита. Потрясающие выступления были. Все эти лекторы вошли в редакционную коллегию нашего журнала «Платоновские исследования» и помогают нам с подбором материалов для него.
И в августе 2018-го в РГПУ прошла самая крупная конференция по платонизму в России — а может, и по античной философии в целом. Мы проводили ее совместно с Международным Платоновским обществом, приняли участие более тридцати иностранных коллег. Вот три ключевых мероприятия.
— Вы не только философ, но также автор художественных романов на исторические темы. Как вы пришли к писательству?
— В юности я хотел стать историческим писателем. Почему я думал пойти на исторический, а в результате поступил на философский? Нужно ведь быть умным писателем, решил я, поэтому буду заниматься античной философией. Первая книга у меня вышла в 1989 году — с повестью «Катул из Гиппона» и рассказом «Легенда о Тевтобургском лесе». На протяжении девяностых и нулевых вышло еще несколько книжек, последние новеллы в сборнике «Город и мир» в 2008 году: «Харуки Мураками умер в гостинице „Англетер“» и «Трусливый Бодхисаттва». Эти произведения мне нравятся больше всего. После них ничего художественного я практически не писал.
— Что сами читаете на досуге из художественной литературы?
— Когда я в последние годы работал директором Института философии человека РГПУ им. А. И. Герцена, у меня был специфически выстроен рабочий день — постоянная административно-академическая деятельность, от которой хочется отвлечься. Поэтому я читаю много научной фантастики. Фэнтези не читаю. Хотя Толкина и тех, кто был после него, я, конечно, прочел в девяностых, когда издательство «Северо-Запад» печатало фэнтези в промышленных масштабах.
Очень люблю Филипа Дика, хотя его произведения не назовешь science fiction — скорее, это madness fiction. Он мой любимый автор, начал читать его еще в молодости в самиздатовских переводах. В конце 2000-х я обнаружил, что научная фантастика никуда не делась, она продолжает развиваться. Как раз когда ехал на встречу с вами, читал Existence Дэвида Брина, очень интересная книга. В какой-то момент мое увлечение научной фантастикой даже позволило начать читать лекции о ней. Например, в позапрошлом году в Открытом университете я прочел лекцию «Теология и твердая фантастика». А совсем скоро прочту в Университете Великого Новгорода четырехдневный курс, посвященный культуре и воображению, в том числе фантастике как форме самоидентификации.
— Ваш сын — основатель культовой альт-метал-группы Amatory. Ходили на их концерты?
— Я дитя рок-н-ролла: 70-е годы, подпольные пластинки, «рок на костях» и т. д. Моя двоюродная сестра живет во Франции и привозила нам западные пластинки. Увлечение рок-н-роллом передалось и сыну: быть может, когда-нибудь он будет давать интервью и упомянет, как на него повлияла группа The Who.
Я давно не был на концертах сына, но в нулевых, конечно, неоднократно ходил на Amatory с друзьями-профессорами, и мы там отжигали. Даже несколько нынешних заведующих кафедрами из разных вузов ходили. Тяжелый метал все-таки не совсем мое, но я, естественно, горжусь сыном и тем, как он играет.

— Великий русский антиковед Фаддей Францевич Зелинский говорил, что Античность — это не норма, а семя. Какими идеями, на ваш взгляд, Античность готова оплодотворить XXI век? Чему нам стоит поучиться у людей Античности?
— В свое время классический филолог Ульрих фон Виламовиц высказал примерно такую мысль: «Если хочешь хорошо знать собственный язык, изучи мертвый язык». Ее можно развить: если хочешь понимать самого себя себя, изучи культуру, которая была совсем другой. Это большой урок.
Мы уже критиковали современные представления об эффективности. В Греции тоже были периоды, когда успешность становилась параноидальной нормой. Например, Афины эпохи Перикла, когда появились софисты, которые были среди прочего и учителями социальной успешности. Реакцией на это был платоновский Сократ, который говорил: постой, подумай, нужно ли тебе это? Нужно ли тебе бояться, если у тебя этого нет?
Ведь самое главное в нашей жизни — то, чего мы боимся. И больше всего мы боимся воображаемой реальности. Умению избавиться от этих страхов учила античная философия в целом и эллинистическая в частности.
Античные философы, от Сократа до Марка Аврелия, осуществляли постоянную работу над собой. Ими двигало желание жить осознанно: понимать, что ты делаешь, зачем делаешь, чего ты изменить не способен, но должен стремится к этому. Осознание принципиальной незавершенности своего бытия порождает потребность постоянно собирать себя — ведь иначе нас будет собирать другой.
В платоновском «Софисте» чужеземец говорит Теэтету: вы наконец-то дошли до того, чем должны заниматься истинно свободные люди. Античная философия несет в себе семя свободы. Свободы, позволяющей собирать себя ради других, ради тех, кто должен стать целью, а не средством.
