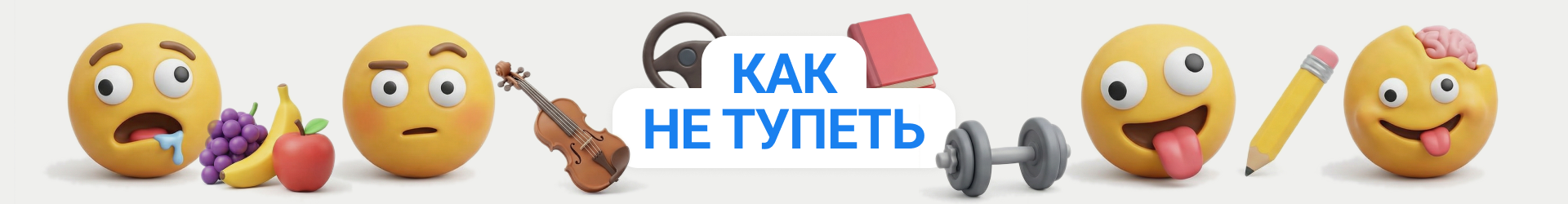Симфония как оружие: как Шостакович высмеивал Сталина в своей музыке
25 сентября исполняется 119 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, русского классика, всемирно признанного гения, последнего великого симфониста и... мастера системной фронды. Как в самые мрачные годы он смог сохранить себя и шутить над властью, не особо ценившей подобный юмор, рассказывает музыковед Юлия Мискевич.

А король-то...
В эпоху, когда неверный взгляд или случайная оговорка могли обернуться отправкой в края «без права переписки», прямое высказывание было равно самоубийству. Искусство стало полем битвы, где вместо пуль использовались аллегории, а вместо лозунгов — музыкальные цитаты. И величайшим партизаном на этой войне был Дмитрий Шостакович — композитор, чья музыка оказалась шифром, дневником ужаса и оружием сатиры, направленным в самое сердце тоталитарной системы.
Как можно высмеять тирана, не произнеся ни слова? Как заставить виолончель язвить, а медные трубы — гримасничать? Гению подвластно и не такое. Шостакович мастерски владел искусством музыкального эзопова языка. Его насмешка над Сталиным и созданным им абсурдным миром — это не открытый смех, а сдавленная усмешка, спрятанная в диссонансе.
Ярчайший пример — знаменитая симфония №9 ре мажор, op. 70 (1945). После монументальной и трагической Восьмой (1943), написанной в разгар Великой Отечественной войны, от Шостаковича ждали грандиозного апофеоза Победы — гимна, но не народу-победителю, а скорее лично Сталину, да еще и в духе великой Девятой симфонии Бетховена. Вместо этого прозвучало нечто совершенно иное. Легкая, почти моцартовская первая часть обманывает ожидания. Но настоящая насмешка таится во второй части — Moderato.
Здесь Шостакович использует один из своих излюбленных приемов — гротеск. Достигается это через сочетание несочетаемого: томная, певучая мелодия кларнета нарочито проста и даже примитивна, но ее тут же комкают, укорачивают саркастические, «спотыкающиеся» реплики фагота и скрипок. Создается ощущение неуклюжего, претенциозного шествия картонного великана.
Это не героический марш, а карикатура на него. Музыка дышит самодовольной глупостью, которая вот-вот лопнет как мыльный пузырь. Девятая симфония выдвигалась на Сталинскую премию в 1946-м, но два года спустя, после очередного обвинения Шостаковича в формализме, оказалась под запретом на исполнение — десять лет ее не играли нигде.
Счастье необязательно
Но главным памятником музыкального сопротивления, безусловно, стала симфония №5 (1937), провозглашенная «оптимистической трагедией». Гениальность Шостаковича заключается в том, что он написал музыку с двойным дном. Официальная критика услышала в финале «ликование светлого будущего». Но так ли это?
Прислушаемся к финалу, к этому знаменитому Allegro non troppo. Да, это громоподобный марш. Да, здесь десятки литавр и медных инструментов. Но что в нем так смущает, привлекает внимание и откровенно пугает? Раскроем тревожную суть.
Тема, которая кажется победной, на самом деле навязчива, механистична и лишена хоть сколь-либо искренней радости. Она не развивается, а монотонно повторяется, наращивая громкость. Ритм неудержим, как движение конвейера или шаг бесчисленных батальонов. Это не ликование свободного человека — это восторг по принуждению. И тот, кто дирижирует этим адским оркестром, — не герой, а диктатор. Шостакович высмеял саму идею обязательного счастья, показав ее оглушающей, пугающей и бесчеловечной.
Поцелуйный звук страшнее снаряда
Еще один пласт сатиры композитор прятал в камерной и театральной музыке. В «Шести романсах на стихи английских поэтов для баса и фортепианного трио, op. 62» (1942) есть номер на стих Шекспира «Королевский поход». В нем изображена комичная, тщедушная фигура монарха. Шостакович пишет музыку, полную фальшивого пафоса и ложного величия: мелодия, напоминающая марш, надтреснутые фанфары. Для определенным образом настроенного слушателя того времени параллель с «кремлевским горцем» была более чем очевидна.
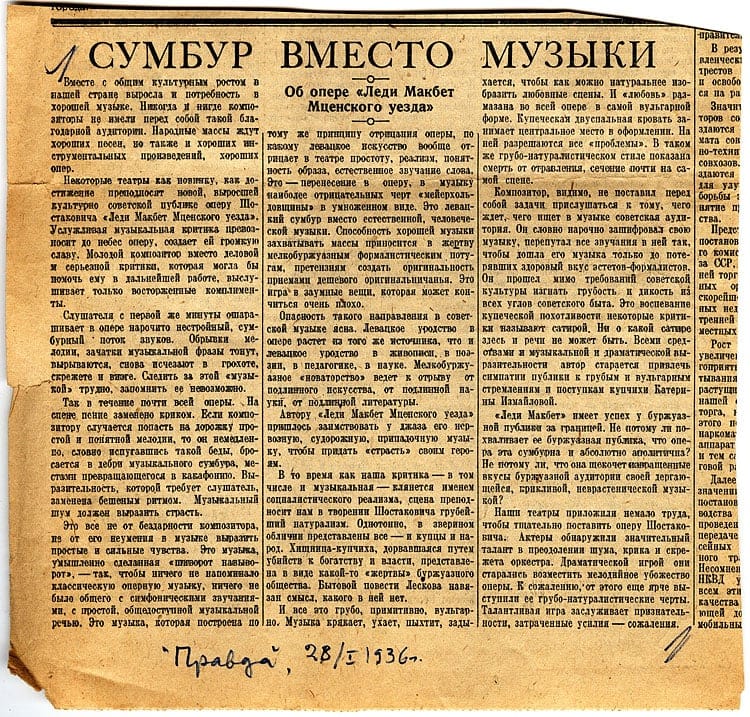
В 1936-м в газете «Правда» вышла редакционная статья «Сумбур вместо музыки», в которой Шостаковича обвинили в «формализме» и «пренебрежительном отношении к народному творчеству», после чего композитора и ряд его коллег подвергли остракизму, но, к счастью для Дмитрия Дмитриевича и мировой музыки, до прямых репрессий дело не дошло. Причиной первой для композитора опалы была вышедшая двумя годами ранее опера «Леди Макбет Мценского уезда» (1934). Никак не касаясь политики, она тем не менее была полна издевки. Обжигающая эротика, разлитая в ее музыке, была заметна особенно явно на фоне традиционной для русской культуры сдержанности в изображении чувственной стороны любви, которая в сталинские времена была усугублена строжайшими цензурными установками.
Как точно подметили Ильф и Петров в фельетоне «Саванарыло», для цензоров «поцелуйный звук был страшнее разрыва снаряда», и эта позиция, вероятно, исходила лично от Сталина, который, как считается, патологически не переносил любую репрезентацию секса в искусстве. При нем обнаженные тела почти исчезли с картин, а кинопоказы в Кремле, в том числе западных фильмов для узкого круга, тщательно проверялись на предмет малейших «неприличных» сцен.
Смех Шостаковича — это смех на краю пропасти, сарказм как последнее прибежище мыслящего человека в мире безумия. Он высмеивал Сталина как явление — абсурд, тиранию, низводящую человека до винтика. Такой тихий, но отлитый в бронзе звуков акт сопротивления продолжает звучать предостережением на все времена.